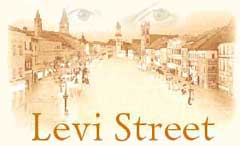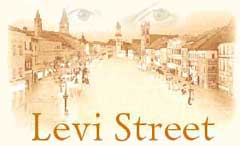…И снова черновик, и засмеяться,
и строчки слабые стереть…
Мне, чтобы выжить, нужно состояться,
а чтобы состояться, умереть.
Совершенство, не убивай меня, не спеши,
я и сам для себя не фамильная драгоценность,
а случайная брызга Твоей души,
но без части страдает целость…
Не выбрасывайте черновики,
это жизнь –
не выбрасывайте, подождите,
дайте им подышать у ночной реки.
Не выбрасывайте.
Сожгите.
Мемуары – не мой жанр (или пока еще), но куда деться от памяти? Все написанное есть память. Сама жизнь – память, в разрушении и созидании, в утрате и обретении – поток памяти, создающий иллюзию течения времени…
Две тысячи восьмой год. Застольный разговор в малознакомой компании. Меня представляют солидной, самоуверенной бизнес-даме.
– Владимир Леви?.. А-а, книгу вашу читала когда-то. «В погоне за мыслью», кажется.
– «Охота за мыслью».
– Вот-вот, охота. Ну и как вы, поймали мысль?
Хотелось ответить: а как же, прямо за…
Сказал:
– Не поймал, зато согрелся.
«Охота за мыслью» (далее ОМ) и в самом деле оказалась для меня книгой разогревательной. Нащупывание тем, поиск авторского лица, прочувствование адресата, пробы стилей, интонаций, дистанций…
ОК – Но не проба пера: до ОМ вы успели опубликовать несколько очерков, замеченных публикой; в них и стихи ваши уже проклюнулись.
ВЛ – Да, начинал уже опыты гибридизации жанров.
ОК – «Под глухой и мерный рокот эскалатор, серый робот, разлучить скорей стремится человеческие лица… Мимо негра цвета кофе проплывает римский профиль... Поручни, как анаконды, под ладонями Джоконды… О догнать бы, заглянуть бы в лица-мысли, лица-судьбы тех, что скрылись в тесноте на ступенчатом хребте…»
ВЛ – Этот стих открывал мой очерк о физиогномике в журнале «Знание – сила». Одна из сквозных тем, переходящих из книги в книгу. О тайне, являемой человеческим существом, о бесконечности, запечатленной в многообразии лиц и фигур…
ОК – Научно-поэтический жанр не нов – припомнить хотя бы «Поэму о медицине» Ибн Сины или «О природе вещей» Лукреция… В ОМ, правда, в отличие от следующих книг, ни одного вашего стихотворения не обнаруживается.
ВЛ – На то есть причина, сейчас расскажу…
ОК – Хорошо, но сперва поясните, если можно, в чем секрет вашей неиссякаемой писательской плодовитости? Как удается столь быстро, одна за другой, выпускать книги с такой насыщенностью содержания, такой густотой текста?
ВЛ – Быстро только пишу, а думаю над текстами долго. Неотрывно думаю, чем бы ни занимался – и на прогулках, и при общении, и во сне.
ОК – И во сне?
ВЛ – Если внутренний маховик раскручен, если создана доминанта – мозг продолжает работу сам, его не так-то легко отключить.
Какие перья у психиатров?
Задумал ОМ, еще не зная ее будущего названия, я лет с 24х, писать начал в 26, а вышла она, когда мне было 28. Печатало книгу московское издательство «Молодая гвардия». Научно-популярная редакция этого издательства выпускала тогда серию «Эврика» – книги об исканиях и достижениях в разных областях науки, написанные известными учеными. Я не был еще известен, только что защитил кандидатскую. Но меня все же, как подающего надежды, сосватали в «МГ» ребята из журнала «Знание – сила». Лена Сапарина и Анатолий Варшавский, оба авторы хороших книг, привели меня к своей приятельнице Людмиле Даниловне Антонюк, редактору «Эврики», и сказали:
– Это Володя Леви, психиатр с пером. Ему пора книгу делать.
– Хмм… Ну, давайте попробуем, – сдержанно сказала Людмила Даниловна, дама средних лет с короткой стрижкой и в громадных очках. Хрестоматийно-редакторская внешность. С перепугу Л.Д. показалась мне страшно свирепой, что потом оправдалось едва ли на пять процентов, а лицо ее без очков оказалось беспомощно добрым. Но это позже, когда мне довелось помогать ей врачебно…
– Пишите о чем хотите, лишь бы касалось вашей специальности, – сказала она высокомерным баском. – И чтобы интересно было широкому читателю. Название очень важно. Яркое, интригующее, и чтобы выражало суть книги. Ну, мы над этим поработаем вместе, – пообещала Л.Д. с мрачноватой улыбкой.
Так началась моя книжная жизнь.
ОК – Начиная, уже знали, о чем и как писать, план книги был?
ВЛ – О чем – знал: о том многом, что было интересно мне самому. Как – не знал еще, только чувствовал. Плана не было, пришлось его накатать: Л.Д. предложила мне срочно написать заявку на книгу и поглавный проспект – эти бумаги прилагались к моему издательскому досье.
ОК – Вашу заявку должно было утвердить и включить в план издательское начальство?
ВЛ – А как же. С обязательной в те времена «проверкой на вшивость» – подтверждением идеологического соответствия. Понятно было обеим сторонам, что это, как и поглавный проспект, лишь проформа, удостоверение на проходной. Что писать автор будет как получится, проспект свой может похерить – но все равно, чувство при подаче заявки было такое же, как при обыске перед входом на самолет.
«Давай мне мысль какую хочешь…»
– Душевное развитие состоит в убавлении неосознанности и прибавке осознанности.
– И обратное происходит: осознанное идет в подсознание, делается интуицией, а потом инстинктом. Сознание постоянно освобождается от себя.
Имир и Мири. Домашние диалоги
Первый вариант написал за полтора месяца, глубокой осенью, сбежав из Москвы на берег Черного моря, к Кавказским горам, в Пицунду. Сбежал, бросив предложенную после аспирантуры заманчивую работу на институтской кафедре.
Жил посреди густой южной зелени в крохотном частном домике, в полном уединении, если не считать маленькую собачку и котенка, которых хозяйка, уехав, оставила мне на попечение. Питался хлебом, чаем и дешевыми местными мандаринами. Рядом было море, шум осенних штормов – и сосны, вековечные длинноиглые пицундские сосны. Неподалеку, в конце кипарисовой аллеи, посаженной францисканскими монахами, когда-то здесь обитавшими, – дивный средневековый храм, а чуть дальше – одетые снегом вершины…
Маленький деревянный столик, заваленный черновиками… Днями и ночами писал, иногда выбегал к морю под солнце или под луну…
Добавьте ко всей этой романтике состояние безумной влюбленности в Далекую Прекрасную Незнакомку, двадцать шесть лет, амбиции, писательскую неопытность, непонимание, как надлежит писать вещи большого объема для широкой аудитории – и вы, быть может, не слишком удивитесь тому, что первая рукопись первой моей книги была написана сплошь стихами.
ОК – Триста с лишним страниц – за полтора месяца – сплошь в стихах?!
ВЛ – С неотвязной мыслью, что Лермонтов в этом возрасте, в 26, уже состоялся, а через год погиб…
Получилась многосюжетная стихотворная пьеса про Вселенную Психики, где есть Планета Сознания, а на ней Империя Мышления, Страна памяти, Океан Подсознания, Королевство Эмоций и прочая, включая державу Вообразилию, которую потом независимо от меня придумал для детей Борис Заходер. В каждой главе были персонажи со своими характерами, воплощавшими, как у Метерлинка в «Синей птице», души вещей – только у меня не вещей, а систем и функций организма и психики. «Я – король Королевства Эмоций, Всемогущий Эмоционал. Кто тут в верности мне не клянется? Кто господство мое не признал?»
ОК – А заявку и план в океане вдохновения позабыли?
ВЛ – По плану все, только не прозой. Стихи на прозу не переводимы, а обратный перевод – сколько угодно.
ОК – Убедительней всех у Пушкина: «О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль какую хочешь: Ее с конца я завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А там пошлю наудалую, И горе нашему врагу!»
Сколько сумасшедших домов нужно миру?
ВЛ – Напомню, дело происходило во времена, когда любого человека, поведшего себя идеологически неправильно, могли сразу отправить за решетку или в психушку.
ОК – Вторая половина шестидесятых, хрущевская оттепель только-только закончилась…
ВЛ – Да, и впереди еще было вторжение в Чехословакию, процесс Синявского и Даниэля, афганская война, высылка Бродского…
«Молодая гвардия» была номенклатурным комсомольским издательством, и хотя на редакторских должностях там работали в большинстве люди симпатичные, расставаться со своими теплыми местами ни у кого желания не было. И когда молодой психиатр вместо ожидаемой научно-популярной, в меру веселой, но непременно серьезной и лояльной прозы выложил на стол растрепанную рукопись, кишащую рифмами…
Надо отдать должное Людмиле Даниловне – у нее был большой опыт работы с неадекватными авторами.
ОК – ?..
ВЛ – Как я и сам раньше еще убедился, подрабатывая литконсультантом в журнале «Семья и школа», почти все авторы, в жизни люди более-менее нормальные, в качестве авторов неадекватны. Особенно производители объемистых, пухлых текстов – тут уж просто не обойтись без диагноза.
ОК – Вы всерьез?..
ВЛ – В любое популярное печатное издание доинтернетных времен каждый день приходила громадная почта, поток писем. Среди разного прочего слали и рукописи – с надеждой их напечатать, а часто и с категорическим требованием. Рассказы, очерки, повести, романы, статьи, трактаты, стихотворения и поэмы, пьесы, сценарии, воззвания, манифесты и прочая, включая произведения, состоящие из ненормативной лексики. Первым весь этот вал принимал на грудь работник, называемый литконсультантом. Он должен был все это читать и фильтровать – отбирать немногое, что кажется подходящим для публикации, и передавать для рассмотрения в редакцию. А остальное отбраковывать.
ОК – Представляю, сколько всякого… вам пришлось начитаться.
ВЛ – В обязанности литконсультанта входила и переписка. Каждому автору, рукопись которого к публикации не принималась, нужно было написать личное письмо – отказ с объяснением. Делать это требовалось деликатно, так, чтобы автор не обиделся. Задача психотерапевтическая и, как я убедился, в подавляющем большинстве случаев не выполнимая, даже при самых изысканных словесных ухищрениях. Работа небезопасная: некоторые из получающих отказ склонны к мести.
ОК – Так вот где вы нарастили врачебное терпение и отточили эпистолярное мастерство. Считается ли графомания психическим заболеванием?
ВЛ – Не считается, иначе по всему миру пришлось бы понастроить столько сумасшедших домов, что их земля не вместила бы. Процентов девяносто книжной продукции подлежало бы свозу в клинические музеи, а интернет нужно было бы считать расширенным филиалом больницы Кащенко.
ОК – Да ведь оно так и есть.
ВЛ – Не будучи болезнью как таковой, графомания может (но не обязательно) быть одним из сопроводительных признаков какого-то душевного недуга или неизжитых комплексов, психопатии или психического заболевания, даже распада личности. В последнем случае, важно заметить, графомания есть знак того, что душа человека распаду сопротивляется.
ОК – И вы, и другие авторы писали, что всякое творчество, в любом виде, даже самое беспомощное, может быть средством душевного оздоровления и саморазвития. Есть и термины для этого: арт-терапия, креатерапия – лечение искусством, лечение творчеством.
ВЛ – Все так, да. Если человек творит нечто просто для себя или для своего ближнего круга – родных, друзей, знакомых – для тех, кому это может быть интересно и может нравиться – ради Бога. Самодеятельность – дело доброе и прекрасное, как оздоровительный спорт.
Но искусство – иное. Искусство – работа для круга дальнего…
Психология графомана, изученная подробно, приоткрыла мне нечто важное не только для графомана, но для любого человека, для каждого.
ОК – ?..
ВЛ – То, с чем человек себя глубинно отождествляет. Что потом я определял то как круг сверхценностей, то как зону неприкасаемости или избирательной некритичности, то как обитель внутренних идолов, заповедник бреда, забредье…
Неадекватность – удел всех живых. Вот и я забредье свое в виде стихотворной ОМ приволок в «Эврику» пред ясные очи Людмилы Даниловны, удвоенные редакторскими очками. Плюхнул на стол толстую папку, ожидая диагноза.
ОК – Вы хоть лирическую неожиданность эту свою попытались как-то смягчить? Предупредили Л.Д., сдавая рукопись, что она в стихах?
ВЛ – Предупредил уже на месте. С учащенным сердцебиением, хриплым от волнения голосом произнес приблизительно следующее:
– Извините меня, пожалуйста… Некоторое отклонение от первоначального заявочного синопсиса по ходу конкретной работы, вероятно, закономерно… Творческий процесс предъявляет специфические инновационные требования… Для раскрытия представленных в план-проспекте тем в их совокупности потребовались несколько неожиданные решения, в частности, изложение материала современных исследований мозга и психики в стихотворной форме, что нисколько не умаляет достоверности приводимых в работе фактов и их научных интерпретаций, а напротив, подчеркивает…
Л.Д. из этого бреда, как видно было, не все поняла, но слушала терпеливо.
Выдержала паузу. Долго листала мой опус взад и вперед, посверкивая тяжелыми очками. Цепко выхватывала тренированным взглядом одну строфу, другую…
В мозгу крысином электрод
вкусней, чем с сыром бутерброд;
педаль под лапой – дверца в рай:
жми – отпирай!
Еще одна пауза потребовалась Л.Д., чтобы обдумать, в какие слова облечь то, что она должна была мне сказать. Она даже закурила на рабочем месте, что редко себе позволяла.
– Так… Уважаемый Владимир Львович. Хорошо, что вы сдали рукопись несколько раньше срока. Вы, конечно, и сами понимаете, что это…
Вздохнула. Еще полистала рукопись. Еще раз вздохнула…
– ЭТО НЕ ПРОЙДЕТ.
Тихо сказала. Тихо и твердо. Взгляд устремила из-под очков куда-то мимо меня. То ли в окно, то ли на потолок.
Теперь паузу выдержал я.
Вообще-то я так и знал. Так и знал, что ЭТО мне завернут с порога. На что надеялся, непонятно. Безумие в чистом виде: изнасилование левого мозгового полушария правым.
Сидел, краснея, потея и все понимая.
И все же идиотски спросил:
– А почему?
Л.Д. проникновенно заулыбалась и тоном, каким говорят с душевнобольным, принялась объяснять, почему.
– У нас не редакция поэзии. И не редакция фантастики. Мы издаем научно-популярную прозу. С любой степенью художественности, мы это приветствуем, но только прозу, понимаете?.. Даже если это допустим, гениальные стихи, читать их как редактор я просто не имею права. Если их и напечатают, что практически исключено, широкий читатель, поверьте, их не прочтет. Понимаете?.. Короче говоря, ЭТО НЕ ПРОЙДЕТ. Принесите нам нормальную книгу. Договор можем пока не расторгать. Дадим вам отсрочку.
Сгреб папку в охапку, ушел. Примерно через полгода принес прозаический вариант – все то же самое, только другим мозговым полушарием. Рукопись не отвергли. Завернули на доработку. «Написано содержательно, но для широкого читателя слишком сложно. Попроще, пожалуйста. Издательство у нас молодежное», – настойчиво попросила Л.Д.
Я разозлился, решил в «МГ» больше не появляться. А через месяц-другой как-то сам собой написался тот принятый в печать вариант первого издания, по которому мы с вами сейчас ностальгически пройдемся – и...
ОК – От прежнего текста хоть что-то останется?
ВЛ – Кое-где будет, может быть, проступать, как геологические слои прошлых эпох.
ОК – А что сталось со стихотворной ОМ, она у вас сохранилась?
ВЛ – Нет. Сжег через пару недель.
ОК – ?
ВЛ – Дотла. В загородном лесу, ночью, на речном берегу. Костер был красивый.
ОК – Копию хоть оставили на память себе и потомкам?
ВЛ – Нет. Персональных компьютеров тогда еще не было, но даже если и был бы… Я и много другого своего посжигал. Убедился: что надо – в голове остается. Не в голове, так в душе.
Человремя, или не всегда хорошо то, что красиво
– Люди, не умеющие слушать, более прочих
нуждаются в том, чтобы выслушали их.
– Но кто слушать не умеет, тот, как правило,
и сказать не умеет так, чтобы быть услышанным.
Имир и Мири, Домашние Диалоги
ОК – Мы говорили о диагнозах. Для случая со стихотворным вариантом ОМ самодиагноз имеется?
ВЛ – Графомания натуральная. Острый приступ.
ОК – Но ведь вы уже первыми публикациями убедили и разные редакции, и читателей…
ВЛ – Публикация ничего не значит. Графоманов и печатают тоннами, и читают массово, и премиями награждают.
Графо-мания означает буквально: письмо-одержимость, неодолимое влечение писать. Но давно уже слово это получило значение расширительное. Есть графоманы-живописцы, графоманы-композиторы, графоманы-певцы, графоманы-актеры, графоманы-кинематографисты, графоманы-фотографы и так далее, не говоря уж о «-манах» устного жанра, «рассказчиках неукротимых». Особый разряд – графоманы-ученые и графоманы-изобретатели. Две самые опасные категории – графоманы-политики и графоманы-врачи.
Не только писать, но вообще – творить, производить, делать что-то можно прекрасно, то есть гениально, можно хорошо, то есть талантливо, можно нормально, приемлемо, то есть профессионально, а можно плохо, негодно, то есть по графомански.
ОК – По пятибалльной системе лесенка у вас выстроилась, от пятерки до двойки. Гений – отличник, талант – хорошист, профессионал – троечник, всего-то навсего?
ВЛ – Талантливый человек может сделать что-то и на пять с плюсом, и на трояк или хуже. Профессионалу разрешается быть и гением.
ОК – Отличником и сверхотличником?.. Но графоман-то уж точно – двоечник или хуже того, единичник какой-то или нулист?
ВЛ – Я бы сказал – лишнист.
ОК –?..
ВЛ – Первый мой литературный наставник, писатель и сценарист Анатолий Шварц в ответ на мой дурацкий вопрос «как научиться писать?», в смысле – писать хорошо – ответил коротко: «научись вычеркивать». И добавил: «Написать всякий всякое может. А вот ты попробуй вычеркнуть. Правильно вычеркнуть». Практически то же самое, как потом я узнал, говорил композитор Брамс: «Чтобы создать хорошее произведение, сперва нужно правильно написать много нот, а потом много нот правильно вычеркнуть».
ОК – И писатели-классики многие говорили подобное, и кто-то из великих скульпторов: «беру камень, отсекаю лишнее – получаю нужное»…
ВЛ – Вот-вот, графоман и отличается всего более неумением убирать лишнее, и нередко это лишнее занимает все или почти все произведение… Может быть уравновешенным человеком с адекватной самооценкой, но не критичен к себе как автору: не способен – или не умеет, не обучен, случай небезнадежный – представить, как его творения воспримут другие.
ОК – Можно ли по тексту произведения отличить необученность от неспособности, непрофессионализм от бездарности? Перспективность, пускай с малыми шансами, от безнадежности?
ВЛ – Иногда легко, с одного взгляда. А иногда очень сложно.
Главный вопрос: а судья кто? – кто оценивает, кто эксперт? И еще: в каком эксперт находится состоянии?..
Если оценивающий – мастер жанра, в котором ему доверена творческая экспертиза – допустим, известный поэт, читающий стихи неизвестного, – то суждение его о читаемом будет, конечно, весьма весомым. Но будет ли верным – еще вопрос. Творческая сила и оценочно-критическая компетентность взаимозависимы не линейно. Как не всякий хороший читатель способен хорошо писать, так и не всякий хороший писатель – хороший читатель. Есть самостоятельное, великое искусство читать, есть искусство воспринимать искусство.
Новый автор может понравиться или не понравиться мэтру по каким-то личным мотивам, к искусству не относящимся. Может быть, по причине творческой самовлюбленности, сиречь нарциссизма, корифей одобрит только своего подражателя – или наоборот, по той же причине отринет, приняв за соперника. Может быть, при всей благожелательности не поймет – в силу оригинальности новичка, гениальности, воспарившей за пределы его восприятия. Или просто не в настроении будет во время дегустации продукта, живот будет болеть…
Кто бы ни оценивал, всякая оценка субъективна – через личный вкус и личное разумение, через свой опыт и предрассудки, свое тело и свою патологию, через очки собственной души, с отпечатками ее пальцев.
У Леонардо да Винчи есть любопытный психологический совет живописцу, перескажу своими словами. Если отбираешь среди людей самых красивых, чтобы их рисовать, – советует Леонардо, – учитывай, красив ли ты сам. Если некрасив, не полагайся только на собственное впечатление: хочешь этого или нет, красивыми тебе будут казаться люди, более иных похожие на тебя. (Я тут добавил бы: так будет получаться, если ты себе, несмотря ни на что, нравишься; а если не нравишься, не любишь себя, то красивыми будут казаться люди самые отличные от тебя, твои антиподы). Сам не образец совершенства – поспрашивай других, красива твоя модель или нет, и положись на мнение умнейших и лучших.
ОК – Звучит удручающе, хоть советует Леонардо...
ВЛ – У Леонардо же читаем – цитирую: НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ТО, ЧТО КРАСИВО.
Его идеалом была объективность, являемая не только красотой; он понимал, что объективное есть всеобщее субъективное, надличный интеграл личного. Понимал и то, что смертному к этой всеобщности можно лишь более или менее приближаться.
ОК – Как же узнать, графоман ты ли нет?
ВЛ – Самому человеку этого знать не дано, как увидеть без зеркала собственные глаза или уши. В свой дар можно лишь верить или не верить. А обратную связь – напрасная это вера или оправданная, ложная или истинная – могут дать только люди и время, такое вот зеркало: человремя.
Мой опыт восприятия творчества других, и особенно детей, говорит, что не бывает огня без искр, а искры без огня иногда случаются. Если в человеке скрывается дар, он прорвется и сквозь неумелость. Из беспомощного подражательства, из наивной банальности или сырой невнятицы вдруг сверкнет, как солнышко из-за облаков, живой образ, выпорхнет, как птичка из куста, за душу берущая строчка, пахнёт свежестью… Проблески – не залог дарования, не предвестие расцвета будущего мастера, нет, все под вопросом, но если вопрос есть, это уже надежда.
ОК – Почему вы уверены, что преданная огню стихотворная ОМ была произведением графоманским? Неужели лишь потому, что попала на закрытый шлагбаум – не подошла к формату «Эврики» и «МГ»? Разве там не было искр надежды?..
ВЛ – Может, и были, но пламя еще не разгорелось. Композиция была рыхлой, стихов много слабых. Видеть это я начал недели через полторы после посещения «Эврики» – вышел, можно сказать, из запоя и относительно протрезвел.
ОК – Огромный объем стихотворного текста за столь краткий срок… Трудно представить, чтобы эта свежеиспеченная махина могла быть целиком выдержана на одном уровне. Почему не дали рукописи отлежаться, не оставили себе на переделку или хотя бы на память, а уничтожили?
ВЛ – Сгоряча. Да и, правду сказать, мне всегда было легче затеять новое, чем домучивать прежнее.
Со стихами дело особое: иным, чтобы прийти в себя – или наоборот, из себя выйти, для стиха это одно – приходится отлеживаться десятилетиями, для других и жизни не хватит. В стихотворной «Охоте…» где-то вспыхивали искорки поэтических находок, а где-то сияла та еще белиберда. Богиня памяти Мнемозина искала кому отдаться, а хитрый герой Интуй, эдакий мозговой Одиссей, пролез к ней через туннель подсознания – и овладел. Гордый рыцарь Адреналин пел вечернюю серенаду Нуклеиновой Кислоте. Академик Павлов на том свете сам попросился в ад, чтобы искупить свой великий грех перед собачьим племенем, и собаки с фистулами желудка бесконечно его пожирали и становились в вечную очередь, чтобы покушать Павлова. Человеческие типажи и характеры уподоблялись прибрежной морской гальке, камням разных пород – а я, автор, их коллекционирую
и топаю каменоломно,
и падаю толпе на грудь –
исчадье каменного лона,
камнелюбивый камнелюдь...
Пожизненно благодарен Людмиле Даниловне за шлагбаум, стукнувший по башке с максимальной мягкостью.
Сколько букв нужно для автографа?
Графомания всечеловечна. Первоисток ее – всаженная в каждую живую частицу жажда бессмертия.
Микрографоман – или, так скажем, семечко или сперматозоид графомана, – тот вездесущий неуловимый автор, который всюду оставляет автограф из трех букв. Миниграфоманы – и те, что хотя бы одной буковкой своего имени увековечиваются на стенах, на парковых скамейках, на лестничных площадках и в лифтах, на скалах, на деревьях, на музейных экспонатах, в пещерах, в общественных туалетах…
Из недр небесных всходит гений,
соединитель поколений,
комета с ледяным хвостом.
Он странен как закон природы.
Он страшен как страшны уроды.
Но есть таинственность и в том,
как хищно маленькие души
вгрызаются в чужие уши,
как, утвердить себя стремясь,
недоумытые поэты
маракают автопортреты
и дарят с надписями грязь,
как недознайки, недосмейки
садятся хором на скамейки,
на стенки лезут и поют.
Везде один и тот же голос,
не отличимый ни на волос:
МЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ. МЫ БЫЛИ ТУТ.
Сойдет за славу и позор нам.
Ползем на небо ходом черным,
а сатана играет туш.
Но погодите же… А вдруг вы
прочтете сквозь немые буквы
инициалы наших душ?
О, поглядите же на стены,
они нам заменяют сцены
и трубы Страшного суда.
Ах, как же вы не догадались,
мы были здесь и мы остались
и остаемся навсегда…
Этот стих, под названием «Автографы» (из большого цикла «Инициалы»), в первой редакции был напечатан в 1989 году в 11 номере журнала «Новый мир», рядом со страницами Солженицынского «Архипелага Гулага».
ОК – Может быть, редакторы-новомировцы почуяли в вашем стихе какое-то родство или параллель гулаговской теме?
ВЛ – Не знаю, может быть и послышался какой-то эмоциональный аккомпанемент… Стих назывался первоначально: «Перевод надписи на скамейке: ЗДЕСЬ БЫЛ ВАЛЕРА». О потребности в самовыражении – таинственной древнейшей потребности оставлять следы своего пребывания: памятные знаки, метки – свидетельства о себе-в-мире. И потребности в подтверждении своего бытия – обратной связи от самовыражения, хотя бы только воображаемой.
Лев Толстой, повышенно здоровый человек, говорил не раз, что писать нужно только тогда, когда не можешь не писать. Сам писал только так, страдал священной болезнью Grafomania Grandioza. В этом толстовском значении графоманию – как влечение, как НЕВОЗМОЖНОСТЬ НЕ, со всем букетом составляющих ее побуждений, – можно считать праматерью творчества, его энергией, его кровью, его землей. С графомании начинают все.
ОК – Даже Пушкин и Моцарт?
ВЛ – Даже Господь.
ОК – Бог библейский весьма решительно обходился со своими черновиками.
ВЛ – У Предвечного, в отличие от смертного, сколько угодно и материала, и сил, и времени для авторедакции. А между двумя смертными, гением и графоманом – разница не только исходно-уровневая, но и темпово-траекторная: в скорости и продолжительности развития. У гения подготовительная, графоманская стадия творческого развития протекает ускоренно – у гениев-вундеркиндов, каким был Моцарт, почти незаметно, молниеносно, – у графомана же растягивается до неопределенности. Гений, пока творит, продолжает расти, меняться и развиваться. Графоман останавливается там, откуда гений начинает. Или еще раньше.
ОК – Как обстояло у вас дело с самодиагностикой графомании после сожжения стихотворной ОМ?
ВЛ – Слабые, недотянутые куски, включения необработанной породы, моменты неадекватности, расфокусированности, заносы и недоносы обнаруживаю у себя постоянно, по сей день. Нашел в ужасающем количестве уже и при вычитке корректуры прозаической ОМ, чуть было не отказался от публикации. Понимаю теперь, что это нормальное авторское самоедство и что его надобно, как и авторский нарциссизм, в какой-то дозе тоже необходимый, держать в строгом ошейнике. Когда встретил у Евтушенко строчку «я, слава Богу, графоман», шепнул себе полустишком: «я, слава Богу, тоже, и дай мне, дай мне, Боже, не потерявши память, всю жизнь прографоманить»…
О родстве жизни и анекдота
ОК – На одном из ваших выступлений прозвучал в авторском исполнении сочиненный вами «Марш графоманов». Музыка показалась мне тонизирующей, а слова довольно реалистичными.
ВЛ – Эта капустническая, слегка хулиганская песенка помогла мне отреагировать одну из «тем жизни».
Вперед, писаки, смело в бой!
Не страшен нам редактор,
швырнем его вниз головой
мы в ядерный реактор.
Припев:
Мы пишем, пишем, пишем,
мы перьями колышем,
бумажный ком становится горой.
На качество не ставим,
количеством задавим,
кто сам себе понравится – тот герой.
(Вариант:
Где не пробьем напором,
свое возьмем измором…)
Буу-дем мы здорово жить,
здорово жить,
здорово жить!
Буу-дем народу служить,
ну а народ, трам-тарарам, воз-даст!
Буу-дем мы звезды тушить,
блям-бам, с начальством дружить,
блям-бабабам, костюмчики шить.
Буу-дем мы водку глушить,
пить графоман, блям, горазд!
Строчи, братва, назло врагам!
Терпеть позор довольно!
Бей рецензентов по мозгам
настойчиво и больно!
Припев
В гробу дубовом, классик, спи,
скрестив на брюхе лапки.
А ты, чувак, пером скрипи,
греби лопатой бабки.
Припев
Дай децибелов, музыкант,
пускай земля трясется!
Кто гений, блям, а кто талант,
начальство разберется.
Припев
Несметной серою волной
накроем мы культуру.
Все наши книжки до одной
сдадут в макулатуру…
ВЛ – Было еще много дополнительных куплетов и вариантов.
ОК – Слова и сейчас в основном годятся, а куплет о серой волне оказался пророческим…
ВЛ – Сценическая премьера этой юморески принесла мне и радость, и некоторые осложнения. В подмосковном писательском доме творчества «Малеевка», на детском каникулярном капустнике, где присутствовали и взрослые дяденьки-писатели, и их жены, жёписы, как их сокращенно именовали, «Графомарш» театрально исполнил вокально-инструментальный ансамбль, состоявший из разновозрастных писательских деток. Постановочной частью руководила юная Настя Гачева, дочь гениального писателя, философа и культуролога Георгия Гачева. Запевалой работал мой сын Максим. Ребятишки, изображавшие армию графоманов, выходили на сцену с огромными пиками, сделанными из тростника (Макс его наломал в окрестной лощине). «Редактора», в исполнении Насти, нещадно лупили по голове сиденьем от стула, сбрасывали со сцены «в ядерный реактор», а под конец в ритме буги-вуги устроили импровизированную вакханалию:
Эй! Собирайтесь, графоманы,
будем мы писать романы,
и романы, и стихи,
много разной чепухи!
Эй! Налетайте, графоманы,
не забудьте про карманы,
ни к чему нам Божий дар,
если платят гонорар…
Одна часть дяденек-писателей и жёписов весело смеялась и аплодировала. Другая, примерно равная по количеству, сидела с каменными физиономиями: возмутиться изволила, приняв прозвучавшее на свой счет. И без промедления накатала на нас с Максом (он был еще подростком) телегу в руководящий орган Союза писателей. Вменили нам дискредитацию труда советских писателей.
ОК – Вот уж воистину на воре шапка горит. Похоже на анекдот.
ВЛ – Жизнь часто похожа на анекдот, только не все это замечают.
Продолжение в новой книге «Доктор Мозг» (готовится к изданию)
|