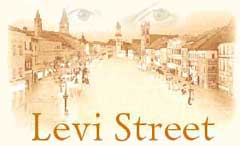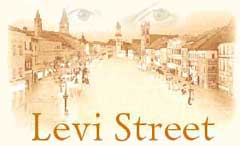17 октября 2010 г.
Из письма заочной пациентки
Папа рассказывал, что любил мне, годовалой, очень жалобно приговаривать: «Ну что, Леночка? Ну что, матушка?» – до тех пор, пока я не заливалась слезами. А когда года два мне было, папа пел песенку: «Вышла кисонька из кухни...»
Я навзрыд начинала рыдать. У Вас читала про эту несчастную песню...
Бог мой, как же долго тянется история взрослого художественного садизма над детьми. И до сих пор еще эта пыточная, надрывно-идиотическая песенка звучит в детских садиках, в музыкальных школах. И хуже того, рекомендуется в качестве психологического тренинга для детишек! Цитирую по книге М. А. Чистяковой «Психогимнастика»:
Психологический этюд «Повар – лгун»
Ведущий читает стихотворение:
Идет кисонька из кухни.
У ней глазоньки опухли.
– О чем ты, кисонька, плачешь?
– Как же мне, кисоньке, не плакать?
Повар пеночку слизал
И на кисоньку сказал.
Звучит музыка В. Калинникова «Кисонька». Ребенок изображает повара. Он делает вид, что лижет пенку с молока, разливая его по воображаемым кружкам. Повар идет к ребятам и раздает им кружки с молоком. Дети спрашивают: «Где пеночка?» Повар отвечает: «Кисонька слизала». Они выпивают молоко и отдают свои кружки, повару. Повар уходит. Входит ребенок, изображающий плачущую кисоньку. От нее дети узнают, что повар – лгун. Повар слышит это и прячется. Дети ищут повара, находят его и ведут к кисоньке. Повар просит прощения у кисоньки.
Не берусь оценивать все вышеозначенное пособие, но, да простит меня автор и читатели, этот этюд «Повар-лгун», ИМХО, – просто классика душевного дебилизма.
Для ребенка, наделенного нормальной способностью к сочувствию, и слушать ее, и тем более, петь – тяжкая неразрешимая душевная мука. У меня из-за этой «Кисоньки» (слова тупые, но мелодия написана дьявольски талантливо) полетело к чертям музыкальное образование: в первом классе музыкальной школы заставляли петь ее вместе с хором остальных детишек, я не выдерживал, ревел в голос с градом слез, убегал... До сих пор эта травма где-то во мне живет, заноза не вытащена. И если бы только у одного меня...
Загадка, над которой стоит поломать голову: почему и зачем в нашем российском менталитете там и сям разбросаны эти занозы, которые взрослые с упорством, достойным лучшего применения, всаживают в обнаженные беспомощные детские души.
«Идет коза рогатая за малыми ребятами»... «Остались от козлика рожки да ножки»... «В траве сидел кузнечик... Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца...»
Вот и всеми любимая и уважаемая Агния Барто туда же:
Идет бычок качается,
вздыхает на ходу:
«Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!»
Ну кто же не знает и всеми фибрами дошкольной души не помнит эту вечную на все времена классику фрустрации. Счастье еще, что большинство детишек повторяет эти стишки механически, в трансе подражания и в гипнозе мастерски сделанной фонетической структуры четверостишия. Жуткий смысл происходящего до большинства не доходит. Но ведь есть и не менее значительное чувствительное и мыслящее меньшинство. Жена рассказывала мне: «В детском садике каждого из нас, ребятишек, заставляли идти по наклонной досточке и твердить вслух наизусть стишок про Бычка. Не знаю, как другие дети, но я, будучи всего лишь трехлеткой, смутно чувствовала, что этот стих не о бычке, а о конечности человеческой жизни... И такой бесславный конец наводил ощущение тоски и безысходности...»
И на меня тоже, помню, это наводило такое же гнетущее ощущение, и мучительно хотелось либо сразу забыть этот стишок, но это не получалось, либо подставить бычку какую-нибудь мягкую подстилочку, чтобы он не расшибся. Или со злостью крикнуть: «А зачем ты полез-то на эту доску, дурак?!» Вот так рождаются будущие психотерапевты :)
Говоря же совсем без шуток, стихи такие писать опасно и для самого автора. Вести своих героев к безысходному концу – значит бессознательно программировать подобные события в собственной жизни. Примеры тому – и Пушкин, и Лермонтов. Вот и у Агнии Львовны трагически погиб в восемнадцатилетнем возрасте от нелепой случайности единственный сын.
Чтобы закончить это размышление на чуть более оптимистической ноте, вспомню еще одно не слишком психотерапевтичное и такое же знаменитое детское стихотворение Агнии Барто.
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.
Этот стишок заканчивается на ноте утешения, что все, мол, не так страшно, как тебе кажется. Мячик не погиб, мячик будет жить. Но и этот стих, помню, у меня-ребенка вызывал смятение и бурный протест, и я даже досочинил его:
Утонуть-то не утонет,
Только кто ж его догонит?
У меня-то у самого мячики не раз падали в реку и уносились по течению безвозвратно...
16 октября 2010 г.
Из князи да в грязи: пыльная работенка
Фрагмент из новой книги «Доктор Мозг: психология психологов»
Вводное резюме: американец Джон Уотсон, профессор, исследователь, пионер психологии поведения – бихевиоризма, после драматического обрыва научной карьеры любовным скандалом находит работу в ведущем рекламном агентстве США. [/left]
Я скажу тебе с последней прямотой:
все лишь бренди, шерри бренди, ангел мой.
Мандельштам
Что такое рекламное агентство? Фабрика охмурежа. Гипнозавод. Производственный комбинат психического изнасилования. Конечный продукт – потребитель. Окученный, соблазненный, послушный, зомбированный, охмуренный, оболваненный потребитель.
Во времена, о которых речь, необходимость такого конечного продукта, разумеется, понималась, как понималась и на старинных восточных рынках с их зазывалами, как понималась в античных полисах, как понималась всегда и всюду. Но в производственных технологиях не было научной основательности – действовали, как изстари, по наитию, полагаясь лишь на нахальство, удачу и некий дар неизъяснимого свойства. Слово «психология» тогдашним рекламщикам было внове.
Новичка Уотсона, называвшего себя профессором психологии, да еще с солидной рекомендацией, в рекламном агентстве Томпсона (Мэдисон авеню, Нью-Йорк) приняли сдержанно и чуть иронически: рекомендация рекомендацией, профессор, мировое имя, ага, но поглядим, как себя покажет. Устроили что-то вроде экзамена или теста: попросили, не сходя с места, сымпровизировать реклам-слоганы к дюжине разных товаров. Более или менее сносными, на взгляд тестирующих, оказались лишь два или три – результат так себе, на троечку с минусом. Джон запомнил это испытание и на всю оставшуюся жизнь сохранил острую неприязнь к тестам, каким бы то ни было.
Взяли на испытательный срок. Начать заставили с полевого маркетинга. Первое задание: пойти в люди и выяснить, какие резиновые сапоги они предпочитают и почему. Уотсон потом вспоминал:
«… Шлепаю под дождем по грязным берегам Миссисипи, останавливаю проезжающие машины, захожу в незнакомые дома, звоню в звонки и с порога спрашиваю всех об одном: резиновые сапоги, господа, какой марки резиновые сапоги вы предпочитаете? Сапоги, уважаемые господа, ваши резиновые сапоги. Скажите, пожалуйста, резиновые господа, какие уважаемые сапоги вы предпочитаете?..
Я снова наивный застенчивый мальчик, совсем зеленый от неопытности и злости. Снова всему учусь с самых азов. Все предыдущие годы я был закрыт от жизни сначала школьной скамьей, потом университетской, потом своей кафедрой и профессурой. Я углублялся в свою науку, но имел весьма отдаленное представление о реальных людях…»
Маркетинг был признан удовлетворительным. Уотсона зачислили в штат с окладом 10 тысяч долларов в год – меньше тысячи в месяц.
Следующим заданием было протолкнуть на рынок новый бренд кофе. Опять знаменитому психологу пришлось обивать пороги, на сей раз продуктовых магазинов, и убеждать торговцев: товар – супер-пупер, берите опт, пока дешево!.. Продавцы ухмылялись, брали на пробу три, пять упаковок или ничего. Дело не шло, и Джон понял, что начинать надо с исследования – вникнуть в торговую жизнь, увидеть ее изнутри и найти решающее звено.
Сам встал за прилавок в магазине. Внимательно присматривался к каждому покупателю. Наблюдения записывал, анализировал. Сразу же обратил внимание, что быстрее других расхватываются товары, расположенные возле кассы: в этом пространстве покупатель получает какой-то дополнительный стимул. Какой?.. Нахождение рядом с кассой включает то, что можно назвать обобщенной «реакцией платежа» – касса есть стимул для этой реакции, и коль скоро реакция активируется – она, как и реакция страха, стремится генерализоваться, захватить «под себя» как можно больше стимулов. (Позднее Ухтомский назовет это «доминантой»). Все, что попадает в поле восприятия во время «реакции платежа», попадает и под вопрос «а не купить ли заодно это? – а не забыл ли я это купить?»
Собеседница Ольга Катенкова – Классика шопиногомании. Узнаю себя.
– Так Уотсон сделал свое первое психопрактическое открытие на ниве торговли: активация мотивации также важна, как и сама мотивация, если не более. Мало того, что подросток любит пожевать жвачку, имеет такую мотивацию – надо ему эту жвачку нечаянно показать, ненавязчиво сунуть под нос. А уж совсем классно будет, если на глазах подростка другой подросток обрадованно купит такую жвачку, начнет со смаком жевать, а за ним, другой, третий...
Решающее звено торговли – конечно же, человек-потребитель: потенциальный покупатель. Работайте с ним целенаправленно, работайте правильно, работайте изобретательно – и сможете продать ему что угодно, хоть тень фараона Аменхотепа в томатном соусе. Где-где, а в рекламе и торговле бихевиоризм работает: создайте стимул – получайте реакцию.
– Странно, что такую простую очевидность приходилось когда-то кому-то доказывать.
– Приходилось, приходится и придется, еще и еще.
Следующим открытием Уотсона была повсеместная упертость производителей в свой товар и продавцов в свой прилавок. Ни те, ни другие не знают в достаточной мере своего покупателя, не интересуются им, не вникают в его психику, в его потребности и возможности, желания и мечты. Не понимают и не желают понимать, чего люди хотят и могут хотеть, а лишь настырно пытаются впихнуть им свой товар, одолевая непонятное сопротивление, и удивляются, печалятся и негодуют, когда товар не берут.
Еще одно открытие, результат многих проверок «слепым методом», Джон обтекаемо назвал «брендовой лояльностью». Точнее было бы назвать его правилом лоха. Основной факт: только один из десяти потребителей самых ходовых товаров – воды, пива, сигарет и т.п. – при употреблении отличает один бренд от другого, если не смотрит на этикетку. Девять из десяти различий не ощущают и пьют пиво «Баран», думая, что это «Козел», с превеликим удовольствием, лишь бы этикетка была что надо. Даешь имидж!
– Эффект плацебо, эффект внушения, как при приеме таблеток?
– Он самый. Как заметил Уотсон, люди платят не за товар, а за идею товара и атмосферу, которая его окружает. Не вещь покупают, а свои эмоции и ассоциации. Не качество содержания решает, кто завоюет рынок, а качество формы: стилистика – и, что очень важно, ее своевременное обновление.
Джон не первым открыл, но первым наукообразно описал «фактор устаревания» – а попросту говоря, надоедание товара, какого угодно, будь он и само совершенство, если его бренд, то бишь наружность и способы преподнесения, не освежаются через какой-то критический срок. Освежение должно происходить так, чтобы примелькавшийся образ, не потеряв узнаваемости, снова привлек внимание – чтобы узнался как будто заново. Нота бене, те же законы в политике, в любви и супружестве...
– Не сулят ли эти законы удачи и неудачникам, вовремя освежаемым? Или опять неудачи, узнаваемые неудачи?.. Тот бренд кофе, который вначале не пошел, Уотсон все-таки сумел раскрутить?
– Насчет того бренда не знаю, но успех кофе Максвелл, который и ныне в большом ходу – стопроцентно успех Уотсона.
– Лучше ли в действительности кофе Максвелл, чем другие?
– Не знаю, не пробовал, знатоков не расспрашивал, но массовый потребитель, судя по объему продаж, счел, что Максвелл круче всех. Этикетка – самая яркая и по сей день.
Исторический факт: именно Джон Уотсон, понимая, что делает, мощно продвинул продажи кофе по всему периметру рынка введением в массовый обиход так называемого кофе-брейка – кофепития в перерыве. В конторах и офисах, на конференциях и симпозиумах это давно уже вписанный в распорядок, сам собой разумеющийся ритуал. Придумал его и уговорил целый мир заправляться кофе психолог-практик Джон Уотсон.
– Как же ему это удалось?
– Не сразу, разумеется, не за один присест. Кофе-брейки были рекомендованы с высоты новообретенного авторитета Уотсона в качестве психогуру поколения американцев тридцатых годов, когда огромный успех возымели его популярные книги, когда по радио звучал его мягко-властный, сексуально-убедительный баритон…
К этому времени Джон уже раскрутил сигареты Кэмел с их безумным губастым верблюдом (на женщин верблюд этот действовал просто убойно), пудру Джонсон-энд-Джонсон («нежнейшая и надежнейшая») и косметический бренд PandsColdCream, ради раскрутки которого добрался до королев Испании и Румынии и уговорил дать рекламные рекомендации. Крем для королевы – бархатная кожа. Женщины и девы, вам поможет тоже! Продажи фантастически подскочили.
– Еще бы. Королевы обмазываться чем попало не станут.
– Так покупательницы и подумали, на что Джон и рассчитывал. А вот чтобы уверить народ, что зубная паста Пебеко – самая лучшая, пришлось применить непрямую рекламу, выстроить многоходовку. Всемирно известный (sic!) профессор Уотсон ведет регулярные просветительские радиопередачи. Объясняет профанам, как они устроены и как жить правильно. В одной из передач в течение получаса рассказывает о физиологии десен, слюнных желез и жевания, акцентируя внимание на неопровержимо доказанном учеными факте: стимуляция слюнных желез очень полезна для здоровья зубов. Если не жалуете бормашину и желаете обойтись без протезов – стимулируйте, господа, ваши слюнные железки. А как же их стимулировать?.. Это уж, разлюбезные, думайте сами. Почаще шевелите языком, ищите подходящие пасты…
Бренд спонсоров передачи – компании, выпускавшей пасту Пебеко, особо вкусную и специально, как написано на тюбике и в инструкции, предназначенную для стимуляции слюнных желез, не назывался ни разу. Но как сразу взмыли продажи!..
Вот и еще заповедь для рекламщиков от профессора Уотсона: если в товаре потребности нет – сотвори потребность. Внедрись в мотивации потребителя, в его страхи и вожделения, найди в них крошечную дырочку и разрой ее, углуби и расширь задушевной авторитетной беседой – получится потребностная ниша для твоего товара. Теперь подтолкни товар к нише, поближе, еще поближе – и все, готово, процесс пошел.
Без малого четырех лет Джону хватило, чтобы стать вице-президентом компании Томпсона и авторитетом номер один в пионерской, странно теперь сказать, области – психологии рекламы. Добрый друг-коллега прислал ему поздравление и выразил опасение, что теперь Уотсону уже не захочется возвращаться в академическую психологию, а как хотелось бы, чтобы такой яркий ум снова сиял в науке…
В канун четвертого, триумфального года продвижения Уотсона на новом поприще в приветственной речи руководителя компании, обращенной к сотрудникам, свежо и волнующе прозвучали слова:
«Ключи к созданию эффективной рекламы надлежит искать в закономерностях, управляющих человеческим поведением. Психические реакции должны служить для нас строительным материалом, как материал физический – для промышленности».
Эти слова были подарены шефу Уотсоном. Не за просто так: зарплата Джона к тому времени возросла в пять раз, а еще через пару лет – уже в семь. 70 тысяч долларов в год – не хило и для времен нынешних, а тогда доллар весил побольше…
Продолжение и развитие темы – в новой книге «Доктор Мозг: психология психологов»
15 октября 2010 г.
Врет иль не врет, вот в чем вопрос
Сильно задолжал, тяну и тяну с ответом на письмо одной молодой даме, попросившей меня помочь ей избавиться от вранья. Не от чьего-то – от ее собственного. Проблема серьезная: хочется человеку быть честным, не хочется врать – а не получается: врет и врет. Обещал написать, как решить эту задачу – решение знаю. Но не получается написать – некогда, все наплывают всяческие неотложности… И обидно: письмо уже в голове почти все готово, страниц так на сорок, на небольшую брошюрку, а написать все никак.
За время моего молчания дама, как написала в одном из повторных писем, сама успела врать отучиться, правда, только наполовину – но ведь уже достижение. А хочется уж совсем, на корню вытравить это дело!.. А мне-то как хочется ей написать, как не терпится! Но вот, поди ж ты, не получается. И думает дама, чего доброго, что и я тоже… с той же проблемой…
Ладно, пока не письмо напрямую, так хоть приближение соорудим к грандиозной теме, заход с одной из сторон.
Даме, желающей отучиться врать – браво-брависсимо. Подавляющее большинство обитателей нашей планеты волнует не собственное вранье, а чужое: как обезопаситься, как раскусить.
Из давнего интервью
– Могли бы вы ответить на такой вопрос: кто честнее, порядочней кто - правши или левши?
– Честность - функция не одного полушария мозга, а двух вместе взятых, работающих на службе души. Если хотите определить степень искренности своего собеседника-правши, послеживайте за тем, как ведет себя левая половина его лица - она управляется по преимуществу правым, "эмоциональным" полушарием мозга. А чтобы понять его отношение лично к вам, его скрытые намерения - повнимательнее приглядывайтесь, полностью ли соответствует мимика правой и левой сторон лица, а также жестикуляция правой и левой рук. Чем мимика и пантомимика асимметричнее, тем вероятнее вас обманут и кинут. У самых искусных лицедеев двигательная асимметричность, выдающая фальшь, приближается к минимальной, но все же и ее можно подсознательно уловить - в этом случае мозг наш срабатывает как тончайший анализатор, и новейшие компьютерные исследования эту его блистательную способность самым убедительным образом подтверждают. Главный детектор лжи, как предполагали еще и Лев Толстой, и Шопенгауэр, вмонтирован в человека, в каждого из нас - нужно только уметь им пользоваться...
«Жив, следовательно ненадежен»
Из новой книги «Доктор Мозг: психология психологов»
Собеседница Ольга Катенкова – Знаменитый «детектор лжи» – это исследование биотоков?
ВЛ – Не только. Детекторы лжи – их теперь множество разновидностей, большой спрос, крупный бизнес – представляют собой полиграфы, сиречь многописцы: приборы, одновременно записывающие целую кучу физиологических показателей. Кровяное давление, частота и глубина дыхания, частота мигания; температура лица, электрические свойства различных участков кожи, тонус сосудов там и сям, напряжение глазных яблок, непроизвольные движения разных мышц и их биотоки, ЭЭГ, ЭКГ (электрокардиграмма)… Во время записи этой объемной меняющейся картины с человеком беседуют на значимые темы вперемешку с незначимыми. Человека тестируют, человека допрашивают, человека усыпляют, обольщают, осведомляют, запугивают, развлекают…
ОК – И все с единственной целью – определить, врет или говорит правду? Жулик или честный, преступник или законопослушный, можно верить ему или нет?
ВЛ – В нашем царстве недоверия – да, увы, с этой одной-единственной целью: узнать, верить можно или нельзя.
ОК – И узнать удается? Цель достижима?
ВЛ – Достижима частично. Узнать удается, но не всегда. И лишь вероятностно.
Все показатели полиграфа, ЭЭГ в том числе, так или иначе свидетельствуют о состоянии человека, о его эмоциях. И все могут сообщить о том, что нечто существенное, нечто важное или даже сверхважное происходит в какой-то миг в его сознании и подсознании. А вот что именно происходит, что содержательно, что конкретно – вопрос, на который никакие приборы ответить пока не могут.
ОК – Если при упоминании имени убитого человек, подозреваемый в убийстве, покраснел или побледнел, затаил дыхание, на миг отвел взор, или наоборот, напряженно остановил его, или замигал, или чуть дернул плечом или коленом, или напряг желваки или мышцы живота…
ВЛ – …или ничего такого – но на самую малость вдруг почему-то изменилось электрическое сопротивление кожи его руки, совсем чуть-чуть ёкнул пульс, а на ЭЭГ на пару мгновений появился так называемый Тэта-ритм…
ОК – Да, да – и что? Этот человек – убийца или как-то причастен к убийству?
ВЛ – Может быть, да. А может быть, нет. С вероятностью, допустим, семьдесят из ста – да. Но и оставшиеся тридцать – вероятность не маленькая.
Есть люди, у которых кровяное давление при измерении оказывается повышенным потому, что оно повышено само по себе. А есть и такие, и их немало, у которых давление нормальное, но повышается в результате его измерения, из-за самой процедуры, из-за процедурного напряжения и волнения. Есть девочки, краснеющие при упоминании имени только того мальчика, в которого они влюблены. А есть не влюбленные ни в кого, но краснеющие лишь от того, что в какой-то миг кто-то мог бы подумать, что влюблены…
ОК – Я от одной только мысли, что меня будут обследовать лживоловкой, покраснела бы одной половиной лица, побледнела другой, полезла бы на потолок и дала зашкаливание по всем показателям…
ВЛ – Эмоциональной лабильностью это называется. Плюс живость воображения.
При тесте на лживость и у того, кому есть что скрывать, и у того, кому нечего – понятная установка: стараться быть на проверке спокойным, как можно спокойнее. Кому есть что скрывать – боится разоблачения, а кому нечего – может бояться ошибки детектора или толкователя, бояться себя, своего волнения. Или ничего не бояться, но все-таки напрягаться…
Тертые калачи подобных процедур применяют наоборотный метод: не напяливают маску спокойствия, не пытаются «владеть собой», а напротив: всячески изображают волнение, имитируют его признаки: подергиваются, дышат сбивчиво, напрягают мышцы диафрагмы, ушей, ягодиц…
ОК – Создают фон – «вот такой я нервный»?.. Но ведь это же само по себе подозрительно.
ВЛ – Для следователя или кадровика подозрительно все, и особенно спокойствие. Та или иная вероятность в пользу «врет» или «не врет» определяется по всей совокупности данных и впечатлений – от поведения, от биографии, от физиономии, от ситуации… Результаты проверки по детектору лжи могут сыграть определенную роль, иногда решающую, а могут и нет.
ОК – Есть ли в человеке хоть что-то стопроцентно надежное?
ВЛ – Кроме смертности, пожалуй, ничего. Жив – следовательно ненадежен, сказал бы товарищ Сталин.
Продолжение и развитие темы – в книге «Доктор Мозг: психология психологов»
13 октября 2010 г.
Как иногда любопытно рифмуется то, что пишешь, и то, что пишут тебе. Сегодня в новой книге «Доктор Мозг: психология психологов» появились вот эти строки:
Собеседница Ольга Катенкова – Будет ли и здесь, как в других ваших книгах, житейско-практическая струя – врачебно-психологическая помощь, поддержка словом? Ответы на вопросы, подсказки, советы читателям?
– Будет. Только по большей части не в прямом виде, не в лоб. Чтобы помочь человеку, лучше не давать советов, а показать наглядно, как МОЖНО жить.
– Вот уже и совет…
А в почте появилось письмо от молодой женщины, которую я принимал около полугода назад. За это время она успела съездить в Англию, пожить там немного, и вот результат суммирования нашей встречи и жизни в стране с другой психологической культурой:
Великобритания научила меня очень важной вещи – не относиться к жизни и к себе чересчур серьёзно. Вы мне на приеме говорили об этом, я помню. Но пока я жила в России, я бы ни за что этому не научилась, так уж сложилось, что мне необходимо было увидеть такой подход в реальности, в действии, так сказать, а здесь в Москве это подсмотреть мало у кого можно. У бриттов же это в крови! Лёгкая ирония и самоирония, пронизывающая все сферы существования, в том числе и домашнюю рутину, в сочетании с крайней доброжелательностью и уважением и к знакомым, и к незнакомцам. В итоге я стала легче на пару тонн! Я теперь вешу не две тонны 55 килограмм, как раньше, со всей своей неповоротливой системой душевных чаяний и проблем, я вешу свои 55 кило, ни грамма больше.
Сие не значит, конечно, что для избавления от груза проблем нужно обязательно ехать далеко за кордон. В любую точку земного шара и за его пределы можно переместиться с помощью творческого воображения, и это даст еще лучшие результаты.
12 октября 2010 г.
СВОБОДУ ПОПУГАЯМ?
Неподалеку от моего дома есть место, где всегда дует ветер, даже в безветрие. В этом месте близко сходятся стены двух домов, образуя для воздуха узкий проход, «трубу». И невидимая стена воздуха, встречая неодолимое ограничение, наращивает давление в свободном для себя месте, усиливает поток, сквозит – точно так, как река, когда ее русло суживается, начинает течь бурно. И в квартире моей есть такие сквознячные места возле суженных проходов – в жару их всегда нашел бы шерстистый пес…
Загадочная природная двойственность на всех уровнях бытия: ограничения и сковывают, и освобождают. Несвобода и гасит стремление к свободе, и усиливает его. Дисциплина и оглупляет, и развивает ум, и отупляет, и изощряет. Цензурный гнет и подавляет, гнобит, душит творчество, и стимулирует его, провоцирует, возбуждает, заставляет открывать и обживать скрытые пространства свободы.
Народы, наиболее стиснутые рамками своих верований, традиций и нравов – наиболее динамичны, пассионарны, живучи, изобретательны. Самые ограниченные люди – самые энергичные и целеустремленные.
В европейском и русском искусстве прошлых времен строгость канонов, шедшая от религиозных ограничений, дала изумительную свободу для выражения высочайших, тончайших и благороднейших состояний духа. Меж тем исподволь накапливался и потенциал состояний не выражаемых, но требующих выражения, – состояний уровнем пониже, еще пониже, и еще ниже, еще… Наконец, дамба прорвалась – и вот мы имеем то, что имеем сегодня.
Мат, зловонной канализационной рекой разлившийся по московским улицам – это что, это откуда?.. А это, братцы, свобода. Это, блин, демократия. Это накопленный подспуд советского ханжества – вчерашнее подсознание, хлынувшее в разверстую дыру нашей псевдосвободы и ставшее сегодняшним массовым сознанием. А ханжество то вело свое начало от ханжества более раннего, государственно-церковного… Впрочем, подспуд и тогда рвался наружу: Достоевский записал однажды в своем дневнике, что слышал на улице разговор двух простолюдинов, в котором употреблялось всего несколько слов, и все до одного матерные.
Экстремальный человеческий опыт иллюстрирует двойственность ограничений – и губительность, и благодатность их для жизни и творчества – с потрясающей мощью. Чего стоит один только опыт инвалидов-колясочников, один только Хоукинг, могучий физик-теоретик нашего времени.
Как ограничен в своих возможностях был глухой Бетховен, которого учили музыке из-под палки…
А Ванга?.. Еще будучи зрячей девочкой, она, словно предзная, что ее ждет, любила играть сама с собой в жмурки: с плотно завязанными глазами искала спрятанные предметы. Когда ослепла – прорвался дар ясновидения.
Ведущий принцип всякого тренинга, в том числе аутотренинга, предназначенного для увеличения внутренней свободы, – добровольное наложение на себя несвобод, сознательное принятие дисциплины, ограничений. Если же человек развивается в условиях ограничений насильственных, навязанных, у него возникает множество компенсаций, идет сложная игра подчинения и сопротивления этим ограничениям, получается множество и позитивов, и негативов. Внутренние противоречия, рождаемые этой игрой, и составляют предмет психоанализа.
Разговор этот – заход в тему воспитания: свобода и дисциплина – как сочетать?
Ответ пока только один: в пропорции. Строго индивидуальной.
11 октября 2010 г.
Свобода воли – есть или нет?
Почему невозможно нарушить закон природы?
…Вся человеческая история есть сплошное покушение на свободу воли – и переменно-успешная борьба с этим покушением. Борьба либо пассивным неповиновением, либо активным сопротивлением и встречными покушениями: кто кого, либо – по принципу айкидо – таким идиотическим повиновением, что покушающийся раздувается как пузырь и лопается…
Я начал осознавать это, когда впервые погрузился в чтение Библии, работая ординатором-первогодком в психиатрической больнице. Тогда же изучал электроэнцефалографию и основательно занялся врачебным гипнозом.
Долго мучили мысли, что свободы воли не существует, что есть лишь мифы и иллюзии этой свободы, общие и у каждого свои. Что все мы –автоматы и боремся – если боремся – за свои мифы и иллюзии, а не за свободу.
Собеседница Ольга Катенкова – И к чему же пришли в этих мыслеборениях? Есть все же свобода воли или ее нет?
– И есть, и нет, такая вот трудно постижимая двойственность. Свобода воли – это возможность выбора: поведения, чувства, мысли, себя самого… Степень возможной свободы воли определяется уровнем развития, уровнем сознания, силой духа. Но чем выше уровень сознания, тем шире и глубже понимание; чем сильней дух, тем выше уровень ответственности – добровольного ограничения свободы своего выбора, самоограничения.
– Первый пример, пришедший в голову, – Андрей Дмитриевич Сахаров. Пример исключительный, но не единственный.
– Иисус Христос – тоже…
Самоограничение своей свободы ради других мы видим уже у животных – то, что Сутерланд вслед за Адамом Смитом и Дарвином назвал нравственным инстинктом живых существ; то, что у человека становится духовной любовью и осознанным самопожертвованием.
Если предположить, что Бог есть существо с запредельной силой духа, запредельно высоким уровнем сознания и запредельно высокой ответственностью за все и вся, то становится понятным, зачем существуют законы природы. Ненарушимость этих законов можно понимать как простую данность – как оно есть, как все устроено и работает; а можно и как запредельное самоограничение Бога, как его отказ от своей свободы – ради вселенной, ради жизни, ради нас с вами.
– Если бы только знать наверняка, что Существо, сотворившее законы природы и ответственное за них, действительно существует… И если бы получить к нему доступ… Я бы тогда попросила его внести в законы некоторые поправки.
– О, я бы тоже. Уже сколько раз просил, умолял, а получая отказы, обижался как ребенок, отчаивался.
Обоснование Всевышнего Отказа можно перевести с НАДсловесного языка на словесный примерно так:
уважаемый имярек, ваши побуждения могут казаться вам честными, справедливыми и благородными; но, ведомо для себя или нет, вы хотите увеличить пространство своей или чьей-то свободы за счет уменьшения пространства свободы других – это повлечет за собой нарушение мирового равновесия и в конечном счете всеобщую гибель…
Над увеличением своей свободы за счет уменьшения свободы других трудилось, трудится и будет еще трудиться несметное множество индивидуумов. Успех всегда был, есть и будет, но только временный...
Продолжение и развитие темы – в новой книге «Доктор Мозг: психология психологов»
10 октября 2010 г.
И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь...
Встретились мы в году таком-то от сотворения мира, на закате советской эпохи, на берегах юрмальских, где располагался тогда один из домов творчества Союза Писателей. Прогуливаясь однажды по дорожке от шоссе к морю, я увидел мальчика, мчащегося мне навстречу на велосипеде, то ли отрока, то ли подростка... Это все не те слова. Потому что с первого мгновения стало ясно, что навстречу мне мчится какое-то фантастическое Существо, живущее за пределами всяких слов, определений, категорий, возрастов и т.д. Существо изумительной красоты, словно сошедшее с полотна какого-то великого живописца эпохи Возрождения или явившееся прямо из времен незапамятных, когда люди были еще подобны богам. Под громадной шапкой черных кудрей сияли, как фонари, вдохновенные глаза, в обрамлении тонких черт нежного, но уже мужественного лица. Полное невероятной энергии крепкое тельце усиливалось как будто взлететь – педали плохонького велосипедишки, казалось, вот-вот улетят в небо...
Существо пронеслось два раза мимо меня, туда и обратно, и скрылось. Я был ошеломлен. Никогда еще в болотных заводях писательских приютов подобные существа не водились, и вдруг – на тебе.
На следующий день я отправился в пустой конференц-зал, где стоял рояль, чтобы позаниматься музыкой, поразмяться, поимпровизировать, как обычно. И вдруг, поднимаясь по лестнице, услышал Музыку.
«Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятья в правоту»...
Кто-то в зале играл Шопена. Я остановился. Да, рояль сегодня занят, и как занят...
Отдельные пассажи повторяются по нескольку раз... Повторяются безошибочно, но каждый раз в немного другой нюансировке... Понятно, идет репетиция. Но на каком уровне, боже мой.
Играет какой-то Большой Музыкант. Кто же?.. Будет концерт? Но никто ничего не объявлял...
Я решился приоткрыть дверь. В зале – никого. А на сцене, где рояль, я увидел ЕГО, вот это самое велосипедное существо. Это ОН репетировал. Над клавишами, как чайки, летали руки, а великолепная голова с кудрями Авессалома, склонившаяся над этим полетом, казалась принадлежащей уже не мальчику, но... мужу... Нет – Богу в экстазе любви, ЕГО естественном состоянии...
Я тихонько присел. ОН меня, конечно же, не заметил и не должен был заметить, не мог... Я с великим наслаждением прослушал всю репетицию, а когда ОН задумчиво поднялся с сидения, очевидно, закончив (сразу опять стал мальчиком), – я быстрехонько шмыгнул в дверь и ушел. На тот день – и надолго – этой Музыки совершенно хватило.
На следующий день я пришел в пустой зал, как обычно, и сел играть. Вдруг дверь открылась, и вошел ОН. Я остановил игру. ОН, подняв обе руки, торопливо произнес: «Играйте, играйте, пожалуйста. Можно я здесь посижу?» «Но вам же нужно репетировать». «Ничего, ничего, играйте, я подожду». Я еще некоторое время поиграл. Когда закончил, ОН спросил: «Что это было? Скрябин, да?» Я смутился, неудобно было говорить, что это не Скрябин, и даже не Дебюсси. Не помню уже, что промямлил. ОН сказал: «Очень интересная музыка, спасибо». Я почувствовал острый приступ счастья, и, торопливо попрощавшись, ушел. После этой встречи еще несколько раз я слушал ЕГО репетиции, и только под самый конец своего пребывания в этом доме узнал, что этот мальчик – восходящая, вернее, уже взошедшая звезда мировой музыки – Женя Кисин.
Прошли десятилетия, сменилась эпоха. И вот я получаю письмо от читателя, скромно подписавшегося: Евгений Кисин. Не составило большого труда убедиться, что это – то самое гениальное Существо, только уже в бытности взрослым мужчиной. Я напомнил ЕМУ о той давней встрече... И вот произошла встреча новая, и завязалась переписка и дружба, продолжающаяся по сей день.
Кто такой Евгений Кисин, рассказывать вряд ли нужно – имя это звучит повсюду и знаково не только для ценителей классической музыки. Это уже всечеловеческая величина. Я счастлив, что судьба нас свела, и благодарен Провидению, которое по своему обыкновению делает для таких встреч предварительные заготовки, как бы примеривает будущее – как это случилось тогда, на юрмальском берегу...
С Днем Рождения, любимый наш Женя!
9 октября 2010 г.
Желать счастья запретически категоряется
Нарыл цитату из Джорджа Оруэлла, великого писателя и провидца, политического сатирика и проницательнейшего психолога, автора знаменитых «Скотный двор» и «1984».
Цитата вот:
Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают счастье целью жизни.
Найти, откуда именно цитата, из какого контекста, пока не удалось, поэтому мыслеотзвук должен быть осторожным, с оговоркой, что высказывание могло быть и ироническим, как у Оруэлла часто, или принадлежать какому-то из его персонажей и получать тем самым, возможно, совсем иное значение, нацеливаться в противоположную сторону, как бильярдный удар дуплетом в угол или середину.
Предположим пока, что сказано всерьез, что это личное мнение самого автора. И тогда мне, например, остается с ним лишь согласиться. И по личному опыту, и по профессиональному, и по общечеловеческому, выраженному в основных духовных учениях мира. О том же и христианское «собирайте сокровища не на земле, а на небе», и буддийская непривязанность, и йоговское оставление плодов действия.
Счастье может быть жизненным состоянием, но не может быть жизненной целью. Вернее, оно всегда целью жизни является, но не может ею внутренне, для себя объявляться. Не может быть мишенью. Если эта цель ставится, то не достигается. Если в эту мишень стреляют, то всегда промахиваются, выстрел может попасть и в самого стреляющего... Счастье – как Эвридика, остающаяся в Аиде от одной лишь оглядки Орфея.
Ищущий счастья как такового подобен музыканту, выходящему на сцену не для того, чтобы выразить то, что должна выразить музыка, а чтобы выразить только себя; или актеру, выходящему в зал для зрительских аплодисментов, а не для того, чтобы жить в образе своего героя. И тот, и другой обречены на провал, их искусство будет фальшивым, его неизбежно загубит оценочная зависимость. Тот, кто слышал и видел, как играет один из величайших пианистов мира Гленн Гульд, сразу поймет, о чем я говорю. Это пример абсолютного погружения в музыку, абсолютного счастья жизни в музыке, полнейшей оценочной независимости и внутренней свободы. Вот так, как Гленн Гульд играет, так и жить надо, чтобы счастливым быть.
8 октября 2010 г.
Диалоги по Дороге (Имир и Мири)
– Знаешь, как можно назвать книгу о старости?
– Как?
– Последнее детство.
– Это грустно…
– Я подумала, что вся жизнь человека делится на первое детство, второе детство, третье детство и так далее… До последнего…
– Тогда уж «Предпоследнее детство».
– А дальше – вечное?
– …
– Правда, так светлее. То, что нужно для названия книги…
***
Кто кого?
Из письма юному человеку
Если не имеешь и не ищешь смысла своей жизни, то смысл жизни сам находит тебя и имеет. Только с наибольшей вероятностью это будет НЕ ТВОЙ смысл, НЕ ТВОЕЙ жизни. А какой-то чужой, какой тебя зацапает и захапает. В казино, скажем...
7 октября 2010 г.
Спутники понимания
Из переписки
…Читая ваше письмо, ясно вижу, что в вашей жизни главной доминантой была и остается ищущая мысль. Во внутренней своей работе вы решаете главные вопросы человеческого существования, и личного, и всеобщего. Это труд великий. Это, собственно, и есть высший смысл человеческого существования – возрастание ПОНИМАНИЯ, работа на этот рост. И, конечно, вы чувствовали себя довольно одиноким на этом своем пути, потому что не так уж велика вероятность встретить достойных попутчиков. Книги, лучшие книги – вот спутники. А теперь и интернет, если хорошо искать…
Назову одного из возможных спутников и проводников в вашем поиске, человека, мысль которого парит высоко, и в то же время вполне земна и жизненна. Это Григорий Соломонович Померанц. Человек, прошедший войну, тюрьму, преследования, нищенство, потери близких, и не сдавшийся, и победивший, и по счастью, живущий и по сей день. Человек высочайшего культурного и духовного уровня.
***
пожалуйсто прочтите и попытайтесь помочь. большего не прошу
(орфография автора письма)
Симпатичный молодой человек так озаглавил тему своего письма.
Вслед за чем вывалил грузилово странички на три…
Очень связно и складно написанное грузилово, в ответ на которое нужно задать еще страницы на три дополнительных вопросов, потом прочитать еще большей длины ответ. Потом часик-другой подумать над своим ответом, и часик-другой его написать. Интересно, чего же большего мог попросить этот человек? Может быть, денег?
***
…Даже если мне протягивает руку сам Бог, я тоже должен протянуть руку Ему навстречу. Мост строится только с двух сторон.
6 октября 2010 г.
Река слушанья
…И в то время, как он говорил, а Васудева спокойно слушал, Сиддхартха сильнее, чем когда-либо, ощущал, как благотворно на него действует это свойственное его другу умение слушать. Он чувствовал, как все его страдания, тревоги и тайная надежда переливаются в слушателя, и только последняя возвращается к нему назад. Показать такому слушателю свою рану было все равно, что купать и охлаждать ее в реке, пока жар не спадет и она не сольется с рекой.
И, продолжая говорить и исповедоваться, Сиддхартха все более и более чувствовал, что тот, кто слушает его, уже не Васудева, не человек, что этот неподвижно сидящий слушатель всасывает в себя его исповедь, как всасывает дерево дождевую воду, что этот неподвижно сидящий – сама река, само божество, само вечное…
(Герман Гессе. Сиддхартха)
Пожалуй, лучшее в мире описание психотерапии в самой ее сути.
Кажется, к этому и добавить-то нечего, так все ясно. И в то же время какая-то непостижимая тайна витает над простым и обыденным: один человек говорит, другой – слушает. Таинственна обратная связь, идущая к говорящему от безмолвно слушающего. Каждый по опыту знает, что далеко не всякое слушанье – хорошее слушанье, пусть даже и предельно внимательное. Васудева дает Сиддхартхе какие-то сигналы особого восприятия, понимания более высокого, чем просто понимание, сочувствия несравненно более глубокого, чем просто сочувствие. Он дает исповедующемуся живое ощущение сопричастности вселенскому Целому, воссоединения с этим Целым и обретения искомого смысла. Между двоими проходит молния бессмертия.
…Иногда намеки на что-то подобное случаются и в психотерапии эпистолярной. Уже много раз люди, писавшие мне письма, сообщали в конце этих писем, что уже и от самого написания письма им стало гораздо легче, лучше, так что и ответа уже не требуется, он пришел как бы сам… И я задаюсь вопросом, а какая же обратная связь приходит к такому пишущему, от кого, откуда он (она) знает, как я воспринимаю его (ее) письмо, и вообще, воспринимаю ли?.. Единственный более или менее здравый ответ, приходящий в голову: где-то в подсознании (или сверхсознании) пишущего происходит внутренний диалог с тем содержанием, которое внедрилось в него раньше, в том числе, быть может, отчасти и из моих книг. Происходит конденсация духовного вещества, наподобие того, как влага из воздуха конденсируется под утренним солнцем в виде росы на листьях, травах, цветах...
5 октября 2010 г.
Мой столетний Вундердядя
сегодня 100 лет профессору Юрию Аркадьевичу Клячко
Читатели повести «Леонардо Подбитый Глаз» в моем «Нестандартном ребенке», наверное, встрепенулись: «Тот самый? Гениальный Клячко?..»
Не тот самый. Но гениальный.
Герою своей повести Владику Клячко, не мудрствуя лукаво, я дал фамилию своей мамы и ее старшего брата – моего дяди Юры, он же профессор Юрий Аркадьевич Клячко, именитый химик, физико-химик и биохимик, военинженер 1 ранга, полковник, автор 850 научных работ, шести книг и двадцати изобретений, учитель целого поколения ученых и практиков. Человек-феномен, человек-фейерверк. Обладатель невероятной памяти, фантастической эрудиции и универсального интеллекта.
Мой единственный родной дядя. Всю жизнь знаю его. Всю жизнь обожал и обожаю. Когда ему исполнился пятьдесят один год, то есть, пятьдесят с хвостиком, помнится, написал ему приветственный стишок:
Если вам полста и хвост,
путь дальнейший очень прост:
жизнь свою начав с хвоста,
бодро топайте до ста.
Дяде Юре понравилось это предложение, он его запомнил. И вот сегодня ему исполнилось ровно сто. Он, правда, до этой даты немного не дотопал – ушел около 94 лет... В девяносто еще читал лекции, руководил научными работами и был неотразимым мужчиной. На этой фотографии ему 92. Трудно поверить, правда?.. Еще труднее поверить, что в возрасте от пятидесяти до шестидесяти он перенес несколько тяжелых инфарктов, страшенный тромбофлебит, едва не отправился на тот свет, но выжил, окреп, женился, родил ребенка...Болезни его не щадили, а он не щадил их и себя и жил на всю катушку. Огромная сила духа.
Не стану перечислять его научные, изобретательские, педагогические и организаторско-общественные заслуги – они обширны и многообразны, я в них почти ничего не смыслю (слегка разве что в механизме работы мышц, в исследование коего дядюшка внес оригинальный теоретический вклад). У кого есть специальный интерес, легко может найти нужные сведения по поисковикам. Только не спутайте – в одном широко доступном интернет-справочнике его назвали аж бельгийским химиком. Это глупость такая же, как если бы чемпиона мира по боксу супертяжеловеса Виталия Кличко (да-да, близко…) назвали киргизским боксером по причине рождения в Киргизии. Дядя Юра, как и моя мама, родился в прекрасном бельгийском городе Антверпене, где дедушка с бабушкой жили в политэмиграции, но он и мама провели там только раннее детство, потом семейство перебралось в Россию.
В Бельгии имени Юрий не существует, поэтому там его назвали Юстином, и двойное имя Юрий-Юстин долго за ним шло.
…Человек он был очень бодрый, энергичный, жизнерадостный и веселый. Можно добавить еще – наступательный, агрессивный, да, весьма агрессивный, но в самом верхнем регистре агрессии – интеллектуальном. Агрессивность минус хамство, агрессивность остроумная, агрессивность красивая, эстетичная – представляете себе такое? Это мой дядя Юра.
Прирожденный боец и вожак, доминантный мужчина, он, при полнейшем отсутствии зависти и редком умении признавать чужие достоинства и восхищаться людьми, просто органически не допускал ничьего превосходства. Превосходил всегда он, чем бы ни занимался:и в науке, где смолоду первенствовал в нескольких направлениях, и в застольях, где всегда верховодил и держал в одиночку внимание сколь угодно большой компании, ибо, употребив любое количество спиртного без малейших признаков опьянения, говорил свободнее, находчивее, доходчивее и интересней любого. Искусный оратор и лектор, он без микрофона легко был слышен в самом большом многолюдном зале. А наряду с этим был обаятельнейшим мастером уединенной частной беседы; мог подолгу увлеченно разговаривать с самыми разными людьми на самые разные темы, с неистощимым интересом ко всем подробностям жизни, и все до мельчайших деталей запоминал навсегда.
По части успеха у прекрасного пола тоже был, как поется у Галича, "упереди планеты всей". Это, впрочем, занимало его менее всего остального (хоть и нельзя сказать, что не занимало совсем) и не требовало никаких усилий: дамы сами летели на него как бабочки на огонь, облепляли, восторженно обожали и отдавались. Красавцем дядя Юра никогда не был, но источал могучее мужское здоровье. Среднерослый, но очень крепкий, статный и мускулистый (хотя спортом никогда не занимался), казался большим, даже огромным. Крупные черты лица – великолепный высокий лоб, основательный нос, длинный выдающийся подбородок – красноречивая и не разочаровывающая маскулинность. Мощный, мягко-бархатный баритоно-бас действовал на женщин как героин.
Три брака, четверо детей. Все три брака начинались счастливо, закончились так себе. У детей судьбы очень разные… Запечатлеть его характер и судьбу для меня очень важно не только лично. Дядя Юра – это целая эпоха и даже, не побоюсь сказать, целое человечество. Жутко жалею, что я не записывал за ним, когда он рассказывал. Он не только помнил все, что когда-либо видел, слышал, читал или думал, он все это глубочайшим образом осмысливал и приводил в разнообразные связи. Его память жила в нем как самостоятельный живой организм, развивалась, искала себе пищу, отращивала новые органы, и свободным потоком изумительно связной, красивой, веселой и остроумной речи изливалась наружу, щедрым потоком. Он сам с этим своим Универсумом внутри был больше, значительнее и интереснее, чем все его научные работы и заслуги, вместе взятые, он каждый миг был больше этого, и все это чувствовали, даже его враги, завистники, которых у него было немало.
Могу, пожалуй, сказать, что он был нереализовавшийся гений. Точней, реализовавшийся, но лишь на какую-то десятую процента от своих возможностей… Наука, смею думать, при всех его впечатляющих достижениях, не была его основным, сокровенным призванием. А что было таковым, в чем он мог полностью соответствовать природно-божескому Замыслу о себе, сказать трудно. Быть может, в писательстве. Он, между прочим, писал интересные стихи…
Продолжение следует…
4 октября 2010 г.
Культура сомнения
…Часто вспоминается одно из высказываний Льва Толстого. Кто-то из оппонентов сказал ему: «Вот когда-то вы говорили так, а теперь иначе. Стыдно менять свои убеждения». Толстой ему в ответ: «А по-моему, стыдно не менять свои убеждения».
Равнозначно: «Стыдно не развиваться».
А сегодня пришла в голову формула «Культура сомнения». Может быть, так можно было назвать даже книгу... Это тоже относится к развитию. Со-мнение. Это не утверждение и не отрицание. Это сопутствующее мнение. Это вопрос и поиск ответа. Это работа мысли. Это многоцветие «и» вместо черно-белого «или». Такой образ мысли и особенно такой образ чувств очень труден. Требует определенной ступени интеллектуального и культурного развития. Большинство человечества стремится как раз к «или» вместо «и», тяготеет к однозначной категоричности, ищет ее и в религии, и в личных отношениях, и в быту, подменяя однолинейностью цельность, уплощая объемность души.
О том же у Григория Померанца: «До полуобразованной массы никак не доходит мысль, что человек создан жить среди противоречий, а не ликвидировать их».
Когда у Карла Маркса спросили, какое у него любимое изречение или девиз, он ответил: «Подвергай все сомнению». Это девиз не самого Маркса. Его приписывают Декарту, а также Сократу или кому-то еще. Теперь уж неважно. Важно тут то, что девиз этот заключает в себе тот же парадокс, что и известнейшая строчка Тютчева «Мысль изреченная есть ложь». Парадокс вот: если подвергать ВСЕ сомнению, то следовательно и сомнение тоже. Если «Мысль изреченная есть ложь», то и эта мысль тоже ложь, поскольку изречена. Так вот, культура сомнения, можно думать, и заключается в том, чтобы уметь давать в себе место и сомнению, и сомнению в сомнении. А это как раз и есть диалог.
Стыдно не сомневаться в себе. Это, собственно, и есть хамство.
3 октября 2010 г.
Из писем юному человеку
…Подумай еще и еще, что основное в твоем лентяйстве:
1) энергодефицит: недостаток сил, нехватка энергии, застой или истощение организма – или
2) смыслодефицит (дефицит мотивации): ненахождение смысла в той жизни, которой живешь, нехватка интереса к занятиям, к делу, к работе, которой приходится заниматься, неосознанный протест или сомнение души – а нужно ли это мне, а мое ли?..
По себе знаю: смыслодефицит может и маскироваться под энергодефицит, и вызывать его. А энергодефицит, в свой черед, может при сильной выраженности гасить даже очень яркие интересы, обнулять мотивированнность.
Если первичен энергодефицит, то направление главного удара – укрепление здоровья. Режим, движение, воздух, сон… Если смыслодефицит – то первым делом пересмотри свою жизнь конкретно, задавшись вопросами: а почему? – а зачем?
Составь в произвольном порядке перечень «ЧТО Я ДЕЛАЮ» – список всех своих действий, поступков, занятий, дел, привычек, реакций и так далее (список этот может пополняться неограниченно). Раздели этот перечень на три: 1) СПИСОК ЭГОИЗМА: что я делаю (только) для себя, 2) СПИСОК АЛЬТРУИЗМА: что я делаю для других, 3) СПИСОК ОЦЕНОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ: что я делаю для зарабатывания чьих-то оценок (для избежания отрицательных и получения положительных).
Сделано?.. Перед тобой трехствольное древо твоих основных жизненных мотиваций. Ни я, ни кто-либо не может тебе указать, каким ему быть, в каком взаимном соотношении должны быть эти стволы-списки – сколько одного, сколько другого и третьего. Важно лишь, чтобы ты сам, самостоятельно это осознал и решил.
Когда решишь и начнешь проводить свои решения в жизнь, убедишься: жить стало не легче, не проще, но яснее и, осмелюсь предугадать, вкуснее. Равно приятно будет делать что-то и для себя, и для других, дарить им от своей жизни. Эгоизм и альтруизм приблизятся к гармоническому равновесию, и оценочная зависимость не будет так сдавливать жизнь, как раньше.
2 октября 2010 г.
Антиреклама пива
Бисмарк, повелитель одной из самых пивных стран мира, Германии, в середине позапрошлого века заметил: «Пиво делает людей глупыми и ленивыми».
А в веке следующем, в 1923 году, в самой пивной части Германии – в Баварии, в столице ее Мюнхене, произошел печально известный «пивной путч», которым заявил о себе рвавшийся к власти Гитлер. С наполненной пивной кружкой в руке он картинно стоял в дверях огромного пивного зала. И в условленный час швырнул эту кружку об пол. Затем с группой молодчиков ринулся в центр зала, выстрелил из пистолета в потолок и объявил начало нацистской революции. Обалдевшая публика так ничего и не поняла. Пивной путч не привел Гитлера к власти, но подготовил почву. Не пейте пива, господа, вот мораль. Уж если невтерпеж выпить… Стоп, стоп. Алкогольной пропагандой психотерапевту заниматься не след. За справками прошу обращаться к Омару Хайяму.
1 октября 2010 г.
Размышление в автопробке
по мотивам отставки мэра Москвы
История сдает в сберкассы
свои застывшие гримасы.
Мы все у времени в осаде,
как обезьяны в зоосаде.
Я веселюсь в автомобиле,
как в комфортабельной могиле,
и лишь слегка грущу, что лошади
в наш век остались без жилплощади.
Смотреть предыдущие записи
|