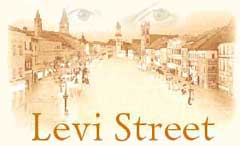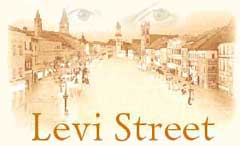30 сентября 2010 г.
Великие тормоза
из недавней переписки
…Вот вы пишете, что большую часть жизни были неумехой, или тем, что нынче называют «тормозом». А я на множестве примеров, в том числе некоторых великих людей, знаю, что как раз такие вот «тормоза» являют собой золотой фонд человечества, людей весьма нестандартных, с огромным умственным потенциалом и недюжинными дарованиями. Три имени приходят на ум навскидку: Дарвин, Эйнштейн, Аверинцев. Люди, чей стиль мышления и деятельности настолько своеобразен, что имеет мало шансов, особенно в период возрастной социальной адаптации, вписаться в стандартные требования. И если, при столкновении социума и развивающейся личности, социум не раздавливает эту личность, если личность выстаивает, то получается весьма достойный, а то даже и выдающийся результат. Но часто, увы, бывает, что личность не выстаивает, и тогда не нашедшие себя незаурядные люди оказываются где-то на обочине, а то и на самом дне жизни…[/left]
29 сентября 2010 г.
Из переписки с о. Яковом Кротовым
О. Яков Кротов – ...Внушаемость ("вероспособность") вызывает настороженность и по другой причине - она кажется препятствием к главному делу людей - к общению.
Общение с Богом - не в расслаблении, а в том, что Его речь - "благодать" - преодолевает мой скепсис, но не использует мою внушаемость. Точно то же – в общении с людьми. Если человек в общении пытается мне что-то внушить, а не сообщить, это - помеха общению. Общность, которую нужно строить, при этом разрушается, начинаются игры во властность и, соответственно, в сопротивляемость.
ВЛ – Да, да... Но в том хитрая штука, что внушаемость работает преимущественно на подсознательном (или вне-сознательном) уровне, и очень трудно у себя уловима. Работает всегда, даже при самом бдительном одновременном сопротивлении.
Тот, кто умеет внушать, никогда не покажет Вам по-дурацки, что пытается Вам что-то внушить, будет только "сообщать" или не сообщать (несообщение - тоже разновидность внушения). А уж ваше дело - распознавание, есть ли в сообщении внушение и какое именно. Это распознавание и умение косвенно-скрыто внушать составляет ядро искусства переговоров, да и пожалуй, всего искусства общения.
Человек,подвергшийся умелому внушению, этого не поймет, не уловит, будет убежден, что все распознал, понял и решил сам.
Любое сообщение есть внушение или попытка внушения – это аксиома практической психологии, подтверждаемая ежесекундно, даже прямо сейчас:)2+2=4 - внушение, Ваше дело его принять или не принять. Отделение суггестивного(внушающего)момента в сообщениях от объективно-информационного и есть задача созревающего психологического интеллекта. А без оного все мы - овцы, или волковцы, разница небольшая.
О. Яков Кротов – Да, существует внушаемость(...) Но не это суть человека(...) Это холст, а не картина. Вы можете многое сделать с холстом, но картина вам не подвластна, вы можете её испортить, но не улучшить. Улучшение через внушаемость всегда будет очень локальным, меньше того, которое от себя, и непрочным. Гипноз не
всесилен - и слава Богу(...) Общение можно, наверное, обозначить как диалог внушений, но это как-то странно и всё же неверно, хотя забавно(...) Может и до цинизма довести, а это ведь тот же инфантилизм(...) Внушение как элемент сообщения есть всегда, но чем человечнее общение, тем ниже этот элемент. В любви он уменьшается почти до нуля, а может, и до нуля. Общение от этого становится лишь лучше.
ВЛ – Радостное совпадение. Я еще в работе над первым изданием «Нестандартного ребенка» понял и написал, что внушаемостью человек лишь начинается...
28 сентября 2010 г.
Из новой книги «Доктор Мозг: психология психологов»
Два страдания человеческих: зависимость – рабство, от которого не можешь освободиться, и свобода, с которой не знаешь, что делать.
Мало кому нужна свобода как таковая. Нужна, и то далеко не всем, свобода выбора несвободы. Совершившие выбор держатся за свое рабство. Но всегдашний вопрос: выбор это или сработавшее внушение?..
В пятом классе на уроке географии я нарисовал карандашом портрет Сталина в форме генералиссимуса. Нарисовал по просьбе соседа по парте, Саши Гольцева. Потомок дворян, он любил Сталина чистой, сыновне-религиозной любовью. Если бы кто-то ему сказал, что Сталин – мерзавец, подлец и палач, Сашка этого кого-то, наверное, попытался бы тут же убить.
Я рисовал, пользуясь своей фотографической памятью, это было легко: портреты отца народов висели повсюду, впечатывались в мозги. Вот кто успешно лечил нас от свободы. Лекарство действует и по сей день…
Собеседница Ольга Катенкова – Ваш Саша Гольцев – не потомок ли Виктора Александровича Гольцева, известного литератора и общественного деятеля?
– Внук. И похож был на деда: та же купольная выпуклость лба, такие же сближенные, навыкате, меланхолические глаза, что-то страдальческое в мягких линиях рта, подбородка… Был росл, но сложения не спортивного, сутуловат, с серо-бледной кожей, с часто проступающим румянцем застенчивости и испариной на лбу, с почти постоянно влажными руками. Белесые волнисто-жидковатые волосы обещали раннюю лысину…
Сашин отец (которого он рано потерял, причина мне не известна – вероятней всего, репрессирован в 37 – 38 годах) в послереволюционные годы сотрудничал с большевиками, тоже по словесной части. Саша с гордостью показал мне однажды групповую фотографию работников Центропечати, если не ошибаюсь, 1921 года, где его папа сидит рядом с Лениным. Меня поразило тогда, что Ленин, скромно сидевший среди многих людей, казался почти в два раза больше каждого из них, хотя ростом был, как я знал, не велик. Впечатление такое создавалось крупнотой головы. Тогдашней моей религиозной любовью был как раз Ленин, а Сталина я изо всех сил старался, как полагалось, по-пионерски любить, но не получалось. Наверное, потому, что в семье у нас его тихо боялись, а любимый мой дед Аркадий молча глубоко ненавидел, и я это чувствовал.
Портрет Сталина, однако, получился похожим, и я, прежде чем отдать работу заказчику, решился показать ее маме и папе, похвастаться. К моему удивлению и обиде, родители отнеслись к моему труду прохладно и хуже того – с опаской. Отдавать Саше не велели, сказали: рисовать Сталина имеют право только взрослые художники, по особому разрешению. Отобрали портрет, припрятали. Я был очень огорчен, Сашка тоже, но не обиделся. Так и остался у нас в доме этот рисунок. Теперь вот отсканировал его, оставив без обработки, со следами прошедшего времени…
– Вы с Сашей дружили? О дальнейшей его судьбе что-нибудь скажете?
– Мы были дружны с пятого класса по восьмой…
…Всего более сблизила нас неразделенная любовь к двум девочкам, которые жили довольно далеко от наших околочистопрудных домов.
Аля Пахомова, милая русоволосая славяночка, вторая моя детская романтическая страсть, одноклассница двоюродной сестры Тани, жила на Кадашевской набережной, неподалеку от кинотеатра «Ударник». А Сашина любовь, не припомню имя, какое-то необычное, кажется, Ляна… Я видел ее всего один раз – прошла мимо нас, не обратив внимания, Сашка успел только рот открыть и беспомощно поглядеть вослед. Ладная маленькая блондиночка с густыми косами, уложенными вверх, похожая немножко на рысь. Показалась мне очень самостоятельной, решительной и самоуверенной, не в пример Сашке. Жила эта девочка возле Ильинских ворот, как раз по дороге к моей Але.
– Вы с Алей встречались?
– Только один раз. Гуляли по улицам допоздна, взявшись за руки. Весело, упоенно болтали, больше ничего. Обоим за позднее возвращение сильно влетело от родителей…
Не передать, как целительно важно нам с Сашкой было поверять друг другу свои чувства, переживать любовные страдания вместе. Слов для этого много не требовалось. Почти каждый день после школы, надев белые шарфики, высший шик подростковой моды тех лет, мы отправлялись по маршруту «Ильинские – Кадашевская», в безумной надежде и жутком страхе еще хоть разок встретить наших возлюбленных. Две любви на одной дороге, поведшей в разные стороны…
– А что было потом?..
– Каждый из нас, как это и бывает всегда, шел по своим ухабам и взгоркам – совпали пути только на короткое время. У Саши дорожка пошла по наклонной. В родительской семье он был сбоку-припеку; точней, семьи толком не было: мать с отчимом жила неподалеку отдельно, Саша остался с полуслабоумной взбалмошной бабушкой. Мать приходила кормить, проверять уроки и ругать, отчим – редко, но метко – пороть за неуспеваемость. Учиться было невмоготу, тройка была радостью, а четверка праздником. Я как мог помогал: решал за него задачки, давал списывать. Саша не был ни туп, ни ленив, но уроки и домашние задания вызывали у него тормозную судорогу, отчаяние безнадеги, с характерным мимическим признаком: наморщиванием лба и застыло-приподнятыми внутренними углами бровей…
– Брови «домиком»?
– Вот-вот, «омегой меланхоликов» это еще называется.
В восьмом классе Сашу оставили на второй год и перевели в другую школу. Потом бабушка его умерла, мать переехала на другую квартиру и забрала сына к себе. Мы с Сашей виделись еще несколько раз, а потом из-за какой-то ерунды поссорились, Сашка наговорил мне с три короба, я – ему…Я тоже жил тогда в своей меланхолии…
Прости, мой друг, прости. Я ухожу.
Не жалуюсь, обиды не держу,
но каждого зовет своя дорога,
к концу началом легким торопя.
Моей бессильной злости на себя
нам на двоих, как видно, слишком много.
Мы потерялись в замкнутом кругу,
мы бросили друг друга на бегу
из детства в смерть – мы не могли иначе,
но примириться с этим не могу
и все еще себе по-детски лгу,
и ложь во мне взрывается и плачет.
О, мало ли потерянных детей
пришло к разминованию путей?..
(Сонет позднейшей поры, с отзвуком тех подростковых переживаний).
С той поры с Сашей встречался другой мой одноклассник и друг – Яша Эстрин, человек широко общительный, душевно на редкость вместительный. Он и рассказывал мне о дальнейшей его судьбе. Увы, ничего хорошего. Саша становился все более тоскливым и замкнутым. Глубоко запал в какую-то из следующих своих несчастных любовей, однажды пытался покончить с собой. Рано начал спиваться. Связался с уголовной шпаной, угодил в тюрьму. Вышел опустившимся, опять вскоре сел… Умер совсем молодым.
– Как думаете – это было предопределено, такая несчастная судьба? Могло ли быть по-другому? Можно ли было Саше как-то помочь?
– Можно, да некому было. Кто мог тогда Сашкой заняться так плотно, любовно и терпеливо, как следовало бы?… Будь я тогда не самолюбивым мальчишкой, а сегодняшним специалистом – наверное, понял бы, что человечек он депрессивный и чрезмерно внушаемый, в депрессивности своей одинокий, а во внушаемости беспомощный и сверхзависимый. Что у него склад души, требующий особой поддержки уже с детских лет, а ему вместо поддержки достается от мира отчуждение и жестокость. Что предоставленный самому себе в ничего не понимающем и не желающем понимать окружении, живет он в беспросветном аду. Что нуждается в бережной лечебно-обучающей среде, в Понимающем Мире – а иногда, быть может, в каких-то тонких, точно-прицельных лекарствах.…
Все это и сейчас в массовом масштабе ближе к мечте, чем к действительности.
27 сентября 2010 г.
Собакоиды и кошкоиды
Около ста лет назад Джон Уотсон, отец-основатель одного из основных направлений американской научной и практической психологии – бихевиоризма (от behavior – поведение) сделал свое знаменитое программное заявление о воспитании.
«… Дайте мне дюжину здоровых, нормальных детей. Позвольте мне создать собственный мир для их воспитания. И я гарантирую вам, что я сделаю из них то, что я захочу. Я воспитаю из них любых специалистов: врачей, адвокатов, артистов, бизнесменов, а если угодно, то и попрошаек, и воров, и так далее. И все это вне зависимости от их расы и национальности, невзирая на склонности, способности, таланты, призвания и тому подобное...»
Собеседница Ольга Катенкова. – И какой же вердикт вынесла на сегодня практика? Как рассудила?
– Практика удалилась на совещание. По фактам, известным мне, думаю, что Уотсон был прав примерно наполовину. Раса и национальность ребенка действительно не определяют, что и кто из него получится, хотя есть здесь нюансы. Этническая принадлежность не лепит характер, но окрашивает темперамент; не влияет на силу ума и интеллекта, но придает им колорит; не определяет содержательность личности, наличие или отсутствие совести, одухотворенность или бездуховность – но сказывается в проявлениях того либо другого, как тембр инструмента, на котором можно исполнить любую пьесу…
– Так же и язык, на котором пишется или на который переводится художественное произведение, влияет и на само это произведение, и на его восприятие. Шекспир в хорошем переводе с английского остается Шекспиром и на русском, и на французском, и на китайском, но все же на каждом языке это другой Шекспир.
– И другой, и тот же.
...Нельзя ставить этническую принадлежность в один ряд со «склонностями, способностями, талантами, призванием и тому подобным». Эти и многие иные врожденные свойства, общее имя коим индивидуальность – активны, работают явно или скрыто и гнут свое, как подводные течения, преобладающие ветры или магнитные аномалии – у одних до пренебрежимости слабо, у других компромиссно, умеренно, а у третьих до неодолимости сильно.
Употребим грубое сравнение, которое Уотсону, обожавшему собак, было бы, думаю, по душе. В отношении к воспитанию детей можно, без притязаний на научность, разделить на два вида: собакоиды и кошкоиды. Собака хорошо приручаема и дрессируема, на то она и собака. Кошку тоже можно приручить и выдрессировать до некоей степени, но на то она и кошка, чтобы гулять самой по себе.
Из дюжины уотсоновских ребятишек, быть может, полдюжины, эти вот собакоиды, стали бы такими, какими он брался их сделать – при условии, что воспитатель и в самом деле владеет воспитательскими ноухау. А кошкоиды развивались бы кто куда, каждого тянуло бы к своему. Один ни за что на свете не стал бы вором, а другой стал бы, хоть руки отрубай. Третий ни за какие коврижки не сделался бы артистом, четвертый только о том и грезил бы или актерствовал, работая парикмахером, таксистом или чиновником. Пятый бизнесменом, быть может, и стал бы, но только при помощи воровских или актерских способностей; шестой стал бы врачом, да лучше б не становился…
В книге «How to Guide?» – «Как руководить?» Уотсон сокрушался, что родительство, старейшая в мире профессия, постоянно терпит поражение – потому, что за долгие тысячелетия жизни рода человеческого профессией так и не стала. А не стала потому, что руководствуется чувствами, мифами и предрассудками, а не наукой и просвещенным разумом.
– На это, пожалуй, не возразишь.
– Вопрос только в том, ЧТО считать наукой и просвещенным разумом…
Из новой книги "Доктор Мозг: психология психологов"[/left]
26 сентября 2010 г.
Из переписки с Яковом Кротовым
послесловие к беседе на Радио Свобода о психологии веры
Внушаемость - атомная энергия души.
Вероготовность, она же некритическая внушаемость, нормальна для ребенка и для подростка (хотя, конечно, уже в весьма разных качествах и количествах - для пятилетнего, например, и для двенадцатилетнего), без нее невозможна социализация и первые этапы умственного и нравственного развития, как и без оценочной зависимости. Но в ней же, как в ОЗ, заключены и огромные опасности...
Для взрослого в небольшой САМОрегулируемой пропорции вероготовность без критики тоже необходима, иногда жизненно, спасительно необходима (для лечения, для духовного возрождения...)
...Но еще более необходима готовность к мысли. К тому, что НАД «верю» или «не верю».
25 сентября 2010 г.
Системный идиотизм
Оглядываясь назад, понимаю, что почти все предметы в нашем мединституте – за исключением тех, которые преподавались Живыми Личностями (см. дальше) преподавали нам из рук вон скверно. Словно нарочно старались, чтобы изобильные разрозненные сведения, подлежащие усвоению, никак не связывались между собой в живой смысл, не соединялись в едином понимании жизни и человека и ничего не давали грядущей врачебной практике.
Кое-как донося эту расчлененку в своих переполненных личной жизнью мозгах до зачетов и экзаменов, мы тут же все из себя испаряли. Когда серьезная практика началась, учиться всему нужному приходилось заново, с азов – строить себя из Дела. Лишь иногда, в критические моменты, подсознание с божьей помощью вытаскивало из каких-то архивных корзин памяти некую студенческую заготовку, позарез необходимую именно в данный миг. Так, истинно позарез, мне было однажды нужно, хирургом не будучи, вспомнить напрочь забытую анатомию брюшины – когда пришлось на ночном дежурстве самому в одиночку, на свой страх и риск делать срочную операцию, спасать человека… Вспомнилось все в точняк, я был сам этим ошарашен – уже потом, когда операция завершилась успешно.
Неосмысленной расчлененкой были и патоанатомия, судебная медицина, медицинская радиология, болезни уха, горла и носа, глазные, кожные, венерические… Из этих обширных курсов, бестолково грузивших память и нужных лишь тем, кто этим нацеливался заниматься, нужных совсем в другом – живом, практическом преподнесении, я с трудом вспоминаю лишь то, что они были, имели место, эти нагромождения.
Собеседница Ольга Катенкова – Насколько я знаю, во всех вузах и теперь так же учат.
– Увы. А вот некоторых хороших преподавателей, любивших студентов и свое дело, вспоминаю с благодарностью. Хорошие преподаватели отличались тем, что системный идиотизм образования умели преодолевать. Каждый по-своему: один – глубиной мысли и широтой эрудиции, выходом за пределы своей узкой специальности, другой – юмором или талантом рассказчика, третий – просто человеческой теплотой…
ОК – Как и в школе. Что я помню из тригонометрии? Помню только, что это про косинусы и синусы, и что математичка у нас была вредина и зануда. Биологиня, наоборот, душевная, хоть и строгая, она научила меня любить все живое. А ведь нам преподавали еще и идиотское военное дело…
– Так было и есть всегда и везде: все системное в человечестве, начиная с государства, церкви и армии и включая образование и медицину, раньше или позже становится хищной бессмыслицей, самоозабоченной нежитью, питающейся человеческими потребностями. А все настоящее, все необходимое и драгоценное создают, хранят, развивают и передают только отдельные Личности, Люди Живые с большой буквы. Слава Богу, нигде и никогда еще Личности не переводились – как бы их ни давили, ни искореняли – ни в школах, ни в институтах, ни в церкви, ни в правительствах, ни в милиции, ни в поликлиниках, ни в психушках, ни в тюрьмах. Всегда и всюду Живые находятся, пусть в ничтожном числе, но спасительном…
Из новой книги «Доктор Мозг: психология психологов»
24 сентября 2010 г.
О фактах высшего уровня
(мыслеотзвук на запись от 22.09.10 «Иерархия опыта...»)
...Итак, наука начинается с обращения к опыту с вопросом: а так ли это? И если так, то почему? А если не так, то тоже – почему? Чем ценен научный факт? Тем, что на его основе можно предвидеть другие факты и целенаправленно получать новые. Наука творит опыт повышенной категории. Но – при всем нашем уважении к научному факту мы не можем поставить его на верхнюю ступень иерархии опыта.
Ибо есть и факты, не укладывающиеся в научный способ восприятия и понимания. Не измеряемые, не повторяемые (или повторяемые, но по-другому) и не подлежащие никакой статистике. Факты таинственные, факты мистические. Относительно них можно высказывать те же сомнения и ту же убежденность, что и относительно других. Мистические факты не доказуемы, они просто случаются, просто есть.
История человечества пестрит такими фактами, и часто они относятся к ее переломным моментам. Один из примеров: голоса Жанны д'Арк. Те самые голоса, которые с 13-летнего возраста предсказали ей ее судьбу и повелели стать тем, чем она и стала. Голоса эти принадлежали, как она утверждала, архангелу Михаилу, святой Екатерине Александрийской и Маргарите Антиохийской. Эти духи являлись ей, по ее утверждению, и зримо. Обо всем, к чему привели эти, скажем так, ее личные факты, хорошо известно из исторических хроник. И будь это не Жанна д’Арк с ее великими свершениями, любой психиатр с уверенностью бы сказал, что тут имела место распространенная психопатология: галлюцинаторная форма параноидной шизофрении - болезнь, и только. Однако при ознакомлении с биографией Жанны, с ее характером, поведением, такое утверждение окажется просто нелепым. Жанна д’Арк не обнаруживала ни малейших признаков психического распада или нарушений мышления. Она была собранной, волевой, жизнерадостной, энергичной и в высшей степени реалистичной личностью, с великолепной коммуникабельностью. Ничего похожего на тип личности, предрасположенный, как теперь говорят, к шизотипическим расстройствам.
Если это и была психопатология, то совершенно особого свойства. Та, которая случилась и с апостолом Павлом, в бытность его Савлом, гонителем первохристиан, когда вдруг посреди пути в Дамаск ему как бы ни с того ни с сего явился Иисус и спросил: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» После чего Павел ослеп на три дня...
Факты мистического уровня случаются в жизни каждого человека. Другое дело, что не все их замечают. А если замечают, то далеко не все находят соответствующие им жизненные решения. Жанна и Павел нашли.
23 сентября 2010 г.
День без автомобиля, или Homo Turniketus
рассказ моей знакомой
...Я не знала, что сегодня «день без автомобиля», но почему-то именно сегодня собралась поехать на трамвае за несколько остановок до ближайшего рынка.
А что день без автомобиля, узнала в билетном киоске. Кассир сказала: сегодня билеты за полцены... Подошел трамвай. Захожу в вагон и вижу: пропускная палочка турникета опущена. Вход свободен. То есть вообще бесплатен. Можно было не брать билет за полцены. Я положила заготовленный полуценный билет обратно в карман. Решила, что оставлю на память о Дне без автомобиля. И прошла в вагон. Самое интересное началось потом. Я стала наблюдать за остальными пассажирами. Примерно один из трех вновь входящих, глядя прямо перед собой, в упор не видел, что турникет опущен, и – следовательно пропускать билет через считыватель (чтобы ТУРНИКЕТ ОПУСТИЛСЯ И ПРОПУСТИЛ) НЕ НУЖНО! Да, примерно каждый третий человек действовал стереотипно, засовывал билетик в считывалку, в ответ на что она оглушительно пищала. Вслед за этим еще более оглушительно полвагона кричало: НЕ РАБОТАЕТ! И так пока не появится следующий Homo Turniketus, который снова засунет свой билетик в неработающий аппарат, получит порцию разъяснений... простоит несколько секунд в оцепенении от нарушения стереотипа и не пройдет в вагон, не замечая хороводов желто-красных листьев за окном...
Я слушал и думал: а ведь такой Homo Turniketus скрывается где-то в каждом из нас. И во мне тоже. Турникет давно не работает, а мы все суем, суем в него билетики. Он пищит, а мы все суем, суем... У каждого в душе свои турникеты.
22 сентября 2010 г.
Иерархия опыта, или к вопросу о преимуществе блондинок над брюнетками или наоборот
Опыт начинается с наблюдения. В том числе и над самим собой, своими переживаниями.
Человек, проживший большую жизнь или получивший интенсивный опыт в какой-то сфере, даже при небольшой его продолжительности, может составить, например, такое суждение:
брюнетки более страстны, чем блондинки.
Такого мнения, в частности, придерживался Казанова, который имел большой опыт по женской части и предпочитал брюнеток блондинкам.
Ну, а скажем, Александр Дюма имел другой опыт. Он находил, что
блондинки более расположены к сексуальности, а брюнетки лишь более суетливы, вздорны и вспыльчивы.
Опыт Александра Дюма тоже не следует сбрасывать со счетов. Но и опыт Казановы, и опыт Александра Дюма – всего лишь личные житейские наблюдения.
Опыт житейских наблюдений, безусловно, заслуживает внимания и достоин проверки. Но опыт этот еще не заслуживает того, чтобы ему верить как несомненному, верить как достоверному факту. Верить как несомненному можно лишь опыту, относящемуся к категории научно доказанного. А для научной доказанности требуется многое: повторяемость или статистически установленная частота, измеримость, подтверждение независимыми наблюдателями и т.д. Даже и при этом факт зачисляется в категорию научно доказанных только с известной долей условности.
Все научные факты, сколь бы они ни были проверены, должны подтверждаться снова и снова, это основное правило науки. Коль скоро факт, считающийся подтвержденным, перестает быть таковым, он моментально выводится из категории достоверных, то есть как бы переизбирается.
Может случаться и так, что тот же самый факт приобретает иное значение в системе других, новых фактов. Наука развивается не только добычей фактов, но и новым пониманием прежних, проистекающим из целостного развития научного знания.
Все сказанное относится к области, которую мы можем назвать строгим мышлением. Но люди не живут строгим мышлением. Они живут мышлением бытовым. А в бытовом мышлении факты, относящиеся к научным, фигурируют лишь в незначительной доле.
В довольно скромной пропорции присутствуют и факты, относящиеся к категории житейских наблюдений. А в основном – мифы, предрассудки и просто чьи-то мнения, принятые на веру. Основу бытового мышления составляет мифистика (см. запись от 15.09.10). Печально, но опыт все тех же житейских наблюдений показывает, что это именно так. И возвращаясь к спорному вопросу о сравнительной страстности брюнеток и блондинок, мы вынуждены повторить одну из универсальных формул, связующих сознание с бытием: «По вере вашей да будет».
Addendum
забытое практическое приложение к «Комической Атаке»
Упражнение дикции и ролевой тренинг в одном флаконе.
Дух Ильича
Представьте себя духом Владимира Ильича Ленина, незримо парящим над многострадальной Триумфальной площадью города Москвы, где ныне намечено делать многоярусную подземную автостоянку. Проницательно глядящий насквозь вождь мирового пролетариата видит этот проект, предвидит, что из него выйдет, и произносит с характерным ленинским непроизнесением букв «р» и «л»:
ИЕАЫХИЯ ПЫИОЫИТЕТОВ ПЫОЕТАИАТА ПЫОВАИАСЬ В ТАЫТАЫАЫЫ*
Как видите, это еще и упражнение на догадливость. Попробуйте догадаться, что же хотел сказать дух Ильича. Если бы на дворе была советская власть, ответы на загадку можно было бы присылать прямо на Колыму. А так милости прошу по адресу toroboan2008@yandex.ru
*идея произнесения этого слова без звука "р" вычитана в воспоминаниях актера Михаила Козакова о беседе с историком культуры Виталием Вульфом
21 сентября 2010 г.
Из недавней переписки с читательницей N
...Мне думается, вы не доосознаете очень важной особенности вашей жизни – того, насколько (думаю, процентов на 70) происходящее в ней зависит от вас самой.
Ни личный, ни дочерний, ни служебный, ни какой-то бытовой долг не могут и не должны перекрывать долга ответственности перед собственной судьбой.
Мне даже кажется, что своими частными ответственностями вы неосознанно закрываетесь от ответственности самореализации, от долга самоосуществления.
Если же пойти навстречу этой Высшей Ответственности с открытым забралом, смело, решительно, невзирая на лица, поверьте, ветер задует в ваши паруса, и могут произойти самые неожиданные события. В какой-то момент, может быть, придется принять «непопулярные» решения, которые никто не сможет одобрить, кроме вас самой и Высших Сил. (Ну например, бросить работу и заняться чем-то совсем другим или уехать в другой город…) Но на то вы и самостоятельный, свободный человек, чтобы наконец самой определять собственную жизнь.
И вот еще важное пожелание. Поставьте себе цель стать заново ученицей жизни – ученицей во всем, начиная с простого движения: научиться ходить легко и красиво, научиться плавать, научиться кататься на велосипеде, научиться обращаться с собаками, научиться быть бесстрашной, научиться иностранному языку, усовершенствовать его... Это такое счастье – постоянно чему-нибудь учиться. Поверьте мне, вечному ученику...
20 сентября 2010 г.
Четвертое обещание, или Псипрактика
Век двадцатый. Научно-техническая революция. Опьянение прогрессом, гипноз достижений, фантасмагория человеческого всемогущества. Жуткие войны, небывалые зверства. Жестокая конкуренция мирного времени. Потребительское общество якобы равных возможностей. Торжество хищной подлости, меняющей маски, слепота эгоизмов повсюду в мире. Духовная какофония. Замороченность обывателя. Несчастность огромных человеческих масс. Несчастность живая, не желающая сдаваться, несчастность надеющаяся, ищущая, во что бы еще поверить…
Массы людей хотят стать богаче, здоровее, увереннее, удачливее, счастливее – очень хотят! И у них это не получается.
– Почему? – вопрошают массы (каждый поодиночке).
– Потому что грешны, Бога гневите, – отвечают клирики по старинке. – Кайтесь, молитесь, впредь не грешите, и будет награда вам если не на земле, то на небе. Так обещала и обещает церковь.
– Потому, что порядка нет, потому, что враги-хищники вам жить не дают. Потому, что вас угнетают, запугивают, обманывают и грабят, – уверяют, тоже по старинке, политики. – А мы наведем порядок, мы уберем врагов, мы проведем реформы, революции или наоборот. Мы освободим вас, мы изменим общество, и все у вас будет. Так обещала и обещает власть и борцы против нее, к ней стремящиеся.
– Потому, что не там и не то ищете – не то богатство, не ту силу, не то здоровье, не то счастье, – ответствуют испокон века наставники-мудрецы, гуру разных мастей. – Следуйте за нами, мы покажем вам путь, откроем источник силы и счастья. Так обещали и обещают философия и внецерковные духовные практики.
– Да хватит же, фигня это все, – раздался еще один голос. – Все проще, доступнее, все под рукой. Вы такие несчастные, люди, лишь потому, что не знаете – как быть счастливыми, не умеете быть какими хотите. Вы не знаете, как вы устроены, не умеете обращаться с собой и с другими. А мы знаем. Мы вас научим. Дадим вам инструменты, инструкции, дадим НоуХау. Так обещала и обещает наука.
Прикладная психология, психологическая практика, древняя и многоликая, как человечество, в веке двадцатом получила энное рождение как дитя науки и бизнеса, – дитя незаконнорожденное, от родителей, отметим это особо, с противоположным отношением к истине. Внучатое произведение бабушки-религии и дедушки-политики…
– Что-то у вас и бабушка, и дедушка получились женского рода.
– Хорошо, пускай дедушка и бабушка вместе называются социальным гипнозом. Так вот, прикладная психология, психологическая практика, покороче – псипрактика, короче уже некуда, – основывается на убеждении, что человек может сделать из человека все, что угодно. И из другого человека, и из себя самого. Только знать НоуХау и правильно применить.
Главная движущая сила псипрактики, рождающая постоянно растущий спрос на нее – потребность в предсказуемости, контроле и управляемости повседневной жизни, и всего прежде и более – поведения человека, его чувств, желаний и мыслей. Потребность, растущая в обществе одновременно и в прямой связи с ростом его потребительства.
В первой половине двадцатого века псипрактика на Западе сорвалась с академической цепи и устремилась на рынок....
Продолжение и развитие темы в моей новой книге «Доктор Мозг: психология психологов»
19 сентября 2010 г.
Второй дар
О побочных дарованиях гениальных людей.
Большинство великих талантов и гениев имели еще один, два, а то и три побочных или дополнительных дарования, в которых так или иначе успевали себя проявить. Как правило, это были не профессиональные в строгом смысле слова, но и не просто любительские занятия, а как бы ответвления от основного русла творческого проявления, которые при внимательном рассмотрении представляли собой единое целое с этим основным.
Или были аккомпанементом к нему, столь же важным и нужным, как и мелодия, просто не выходили на первый план.
Хорошими рисовальщиками были: Гете, Пушкин, Лермонтов, Гюго, Маяковский, великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, Сент-Экзюпери, Сетон-Томпсон... Шопен был прекрасным карикатуристом. Гофман, известный миру как великий писатель, был еще и незаурядным композитором и опять же превосходным рисовальщиком. Гоголь тоже интересно рисовал.
Прекрасным музыкантом был Альберт Эйнштейн. Альберт Швейцер был профессиональным органистом, и, как мне кажется, его музыкальный дар был наравне с даром нравственным. Он был замечательным исполнителем Баха.
Чюрленис един в трех лицах: художник, композитор, поэт.
Нострадамус: поэт, врач, пророк.
Микеланджело, известный миру как величайший художник и скульптор, был автором прекрасных сонетов.
Пастернак – музыка, философия и только потом – поэзия...
Чарли Чаплин, гениальный актер-комик, сам писал сценарии к собственным фильмам, сам сочинял к ним музыку и сам режиссировал.
Ну, и конечно, Леонардо. Сказать, какого дарования у него не было, невозможно. Пожалуй, все. Быть может, за исключением нравственного. Бродский, впрочем, ставил эстетику выше этики. Но с этим можно поспорить, и при внимательном вдумывании предмет спора растворяется в единстве одного и другого. Мы ведь не спорим, что выше, главнее или нужнее: физика или математика. Математика – инструмент всех естественных и прикладных наук. Искусство – математика нравственности.
18 сентября 2010 г.
Сказ о том, как Вольфганг Амадеевич Моцарт научил Жерара Батьковича Депардье говорить по-французски и от заикания вылечил
Юный Депардье, приехавший в Париж из провинции поступать в актерскую школу, плохо владел французским языком. К тому же и заикался. Тем не менее, при попытке поступить
его актерское дарование не осталось не замеченным. Оставалось только исправить речь.
Директор актерской школы Коше направил юного абитуриента к доктору логопеду-дефектологу. Врач посоветовал Жерару каждый день по два часа как минимум... слушать Моцарта и особенно оперу «Волшебная флейта». Через несколько месяцев Депардье говорил как пел. И пошло, и поехало...
17 сентября 2010 г.
Из письма
Хотелось бы, чтобы моя дочка избавилась от целого ряда зависимостей, научилась уважать и спокойно принимать саму себя.
Из моего ответа
«Целого ряда» зависимостей у вашей дочки пока, слава Богу, нет. Есть одна, основная, бурно расцветающая – оценочная зависимость (ОЗ). В подростковом возрасте резко возрастает ОЗ от своих сверстников обоего пола. Для подростка – это «референтная группа». ОЗ от родных, семьи – тоже есть, она образуется еще с раннего детства. В подростковом возрасте быстро нарастают защиты от этого оценочного сектора, и тем быстрее и плотнее, чем сильнее семейное оценочное давление.
Умение себя уважать и спокойно принимать – это уже уравновешенная, укрощенная оценочная зависимость – свойство зрелой личности. (Зрелость личности и хронологический возраст чаще не совпадают). При уже повышенной ОЗ путь к этому не быстрый и не легкий, на самолете гипноза его не перелетишь.
фрагмент недавней переписки с мамой 14летней девочки
16 сентября 2010 г.
Мыслеотзвуки
Мысли подобны волнам. Они – и мысли, и волны, и мыслеволны – рождаются событийными ветрами, глубинными сотрясениями почвы (душевной) или какими-то местными всплесками и перемещениями, и бегут, бегут, рождая другие, а те – третьи, пока не угаснут или не перейдут в бесконечность...
Во Вселенной мысли практически невозможно уследить начальное возникновение той или иной мыслеволны. Мысли, кажущиеся нам совершенно первичными откровениями, явленными откуда-то из глубины гениального сознания или свыше, при внимательном исследовании истории человеческого рода обнаруживаются в ранних источниках, а те, как выясняется, перенимают их, обрабатывая, из еще более ранних. Всевозможные мыслеподобия, как звезды одинакового типа, вспыхивают не только в разных временах, но и в разных пространствах, всюду, где только есть люди, а среди них – мыслящие. Вольно или невольно все мы работаем приемниками в этом мыслеволновом пространстве, все перерабатываем какой-то общий посыл, все отзвучиваем друг друга. И неудивительно, что какая-нибудь твоя свежайшая и, кажется, ну совсем уж гениальная мысль оказывается всего лишь перепевом сказанного каким-нибудь Анаксимандром или Конфуцием. И слава Богу!.. Вот почему мне кажется вполне плодотворным жанр мыслеотзвуков. Берешь какую-нибудь понравившуюся мыслишку или мыслищу, или даже не понравившуюся, а наоборот, и начинаешь ее отзвучивать. Сначала внутри себя: послушаешь-посмотришь, поощущаешь, что она там в тебе производит, какие еще волны, а потом можно вывести эти бултыхания и на внешний план, облечь в слова, музыкальные звуки, танец, рисунки... Ну например:
Приучай себя к тому, что тебе кажется невыполнимым. Ведь левая рука, более слабая, нежели правая, повода держит сильнее, ибо к этому она приучена.
Марк Аврелий
Вот, пожалуйста: наугад – и сразу попал в свое, близкое. Чем вам не «Метод Билатеральной Коррекции», мною чистосердечно изобретенный. И гораздо шире и глубже, чем этот метод. Приучение себя к тому, что кажется невыполнимым, – это ведь метод коррекции характера и судьбы, не более и не менее. А заодно и избавление от всевозможных зависимостей. Заядлому курильщику кажется невыполнимым отказаться от сигарет. Я хорошо помню, с какой неопровержимой убедительностью это казалось мне...
А ведь сказано без малого две тысячи лет назад. И кем? Римским императором, правителем и воителем. Но он был еще и гениальным философом, этот император-интроверт, человеком высочайшего духа. Его очень любил Лев Толстой и обильно цитировал в своих «Мыслях мудрых людей на каждый день».
Так же наугад поискал мыслеотзвук к кажущейся невыполнимости. Нашел этот:
Нужно верить, что непонятное можно понять, иначе не будет побуждения думать.
И. В. Гете
Итак, верь в выполнимость невыполнимого, в понимаемость непонятного – и не будет предела развитию твоему.
15 сентября 2010 г.
Мифистика
Медицинская шутка: все болезни от нервов, один сифилис от удовольствия.
Не настаиваю на высоком качестве этой шутки, но вышучивается в ней всеприсутствующий и вместе с тем трудноуловимый компонент человеческой психологии, который я называю мифистикой. Да, есть мистика, а есть мифистика: склонность к созданию всяческих мифологем. Когда склонность сия сливается с другой склонностью – повсюду искать и находить виноватых, искать врагов – тогда и образуются верования типа «все болезни от нервов», «во всем виноват Чубайс» и т.п.
Один из вариантов мифистики – стремление находить для болезней исключительно психологические причины. Начиная от геморроя и кончая им же.
Люди, не сведущие в медицине, анатомии, физиологии и генетике, припишут и анемию каким-то психологическим расстройствам, и псориаз отнесут к тайным комплексам, и ветрянку... Упускается при этом такой важный и тонкий момент, как коррелятивный индекс, или иначе говоря, вероятность совместности. У человека, страдающего малокровием (анемией) с повышенной вероятностью обнаружится утомляемость, астеничность, пониженная самооценка, склонность к депрессии и много других сопутствующих психологических признаков. Все они вместе взятые и каждый в отдельности не вызывают анемию, и не вызываются ею – но через сложные причинно-следственные цепочки оказываются в одном вероятностном конгломерате. Примерно так же, как на одном и том же поле с большой вероятностью растут одуванчики и ромашки, поблизости друг от друга. Или какие-то другие цветочки, которые часто соседствуют. Это ведь не значит, что один цветок является причиной другого, или повинен в его возникновении. Вероятностно-коррелятивное мышление у обывателя, как правило, отсутствует, он и не представляет себе, что это такое. Вероятностная логика – атрибут научной культуры мышления, внедрение такой культуры в массовый обиход, увы, пока только заманчивая мечта.
14 сентября 2010 г.
Не только о глупостях
Не всякий маленький вырастает большим, но всякий большой бывает сначала маленьким. Глупости подчиняются той же закономерности.
Из новой книги «Доктор Мозг: психология психологов»
***
Из переписки
...Чтобы стать Рыцарем Добра, к чему зовет вас душа, вам придется перестать беспокоиться о себе. А чтобы перестать беспокоиться о себе, нет иного способа, кроме как своего внутреннего беззащитного ребенка доверить Богу. Молитва – это и есть поднесение своего внутреннего ребенка Богу, напоминание Богу о нем с выражением полноты доверия. (Псалмы – лучший образчик.) И тут воистину – по вере вашей да будет…
из письма читательнице, выдержки из переписки – в одной из ближайших рассылок
***
Новые издательские проекты
Побарабанов В. Л. «От фонаря до лампочки».
Это книга не об электричестве, как кое-кто мог подумать.
Нет, это книга о психологии мотивации. А если короче, то ... Что-то лень придумывать, как короче. Оставим пока как длиннее и впишем в число моих новых проектов. Для этого проекта и одного названия хватит: если перечитывать его по одному разу тридцать три раза в день, можно вылечиться от трудоголизма.
13 сентября 2010 г.
Выбор и псевдовыбор
Во внешней нашей жизни на каждом шагу нам предлагается уйма выборов. Такую колбасу брать или эдакую? Пиво такое или сякое? Канал ТВ первый или тридцать десятый? Президента выбрать вот этого или вон того, у которого размер обуви отличается на пол-номера?
Не понимаем мы, овцы, что все это выборы между одной травкой или другой, а пастбище то же самое, пастыри те же, шерсть наша та же и шашлык из нас тот же самый будет.
Хитрые пастыри давно изобрели демократию для овец – псевдовыборы. Самый надежный способ борьбы с конкурентами – создание себе конкурентов искусственных и контролируемых, конкурентов собственного производства. Выбирая между фантой и спрайтом, в любом случае делаем выбор в пользу компании «Кока-Кола».
Настоящий выбор – не вне, а внутри: выбор Себя. И первейший вот: выбираешь ли ты в себе зависимого раба или свободную личность, тварь дрожащую или существо распрямленное, овцу или человека.
Этим выбором определятся и все внешние выборы, если таковые понадобятся.
12 сентября 2010 г.
Кнопки существования
Кто хочет подзаработать? Даю рецепт. Простой, как отрыжка, проверенный тысячелетиями. Поместите где-либо, хоть на ближайшем заборе, объявление из двух слов: ВЕРНУ МУЖА и телефон или что там. Это будет стимул, на который последует реакция: попрет клиентура. Все, жизнь обеспечена.
Неважно, что мужья возвращаются с тем меньшей охотой и вероятностью, чем сильней их хотят вернуть. Неважно, что это грубая лажа, что никто никого против воли вернуть не может, никакой психотехникой или магией – все равно в это верили, верят и будут верить, потому что верить хотят. Кого-то можно попробовать убедить, что и фиг с ним, что туда ему и дорога, козлу, и это будет просветляющей правдой. Кому-то дать аккуратно понять, что магический метод возврата мужей рассчитан только на терпеливых и неограниченно состоятельных. Какой-то результат всегда будет: процентах в пятнадцати, несмотря на усилия по возвращению, мужья возвращаются сами, и это случаи тяжелейшие.
Стимул, реакция… Вожделенная механика бытия, кнопки существования. Просуществовать можно и на другом посуле: «Обеспечиваю невозвращение мужа». Паствы будет значительно меньше, но и такая найдется. Придется, правда, снабжать эту паству более конкретизованными рекомендациями.
Продолжение и развитие темы в моей новой книге «Доктор Мозг: психология психологов»
11 сентября 2010 г.
11 сентября
Это известие застало меня в большом зале, где проходил вечер памяти отца Александра Меня. Большая часть вечера уже состоялась. Я, кажется, тоже уже успел выступить. Должен был еще кто-то сказать свои слова, и в заключение состояться небольшой концерт. Как вдруг в президиуме, где сидели самые близкие друзья и ученики отца Александра, и в их числе о. Александр Борисов, произошло какое-то замешательство. Все там сидевшие вдруг как-то сгорбились и начали что-то тихо говорить друг другу. В зале повисло томительное ожидание и, как показалось, воздух посерел, как от дыма. Наконец, председательствующий объявил: «Мы вынуждены прервать нашу встречу. Только что произошло событие, возможно, являющееся началом третьей мировой войны. По Америке нанесен сокрушительный удар. Сейчас необходимо всем нам пойти к своим радиоприемникам и телевизорам, внимательно следить за событиями и принимать важные, судьбоносные решения. Пусть дух отца Александра поддерживает нас в это тяжелое время».
Вслед за этим люди поднялись, и в каком-то полуступоре шока нестройными кучками пошли по домам.
Дальше в памяти – кадры, знакомые всем как мелодия первой выученной детской песенки: самолеты, врезающиеся в небоскребные башни, и падение башен.
Я знаю одного человека, который как раз в это время жил в Нью-Йорке. 11 сентября, как обычно вышел на улицу, посмотрел в энный раз на башни, зашел в излюбленную пиццерию позавтракать. Вышел из пиццерии, посмотрел на башни... а башен уже нет. Пошел в направлении башен, узнать, что произошло. Навстречу панически бежали люди, дальше – оцепление... По-видимому, он понял, что же там действительно произошло, позднее, чем те, кто на других концах света наблюдали за этими событиями на экранах своих тв.
А произошло, действительно, начало третьей мировой войны. Точнее, обозначение этой войны в новом тысячелетии. Удар в набат: вот оно. На самом-то деле, третья мировая война началась раньше, началась, как начинаются великие реки – со многих маленьких ручейков, и продолжается по сей день. И на самом-самом деле, это никакая не третья мировая война, и второй мировой войны не было, и первой. А есть единая сплошная мировая война – всемирная болезнь с более или менее регулярными обострениями.
Метафизически говоря, войну эту можно назвать войной между добром и злом. А в реальном, конкретном выражении, это, словами Бродского, война «между Плохим и Ужасным». А я бы даже сказал: между менее ужасным и более ужасным, что конечно, не означает, что реальных сил добра в природе и человечестве не существует. Они существуют. И действуют. Но когда действовать приходится путем войны, силы добра вынуждены присоединяться к силам относительно меньшего, хоть на микрон меньшего зла и пользоваться ими как орудиями. Происходит примерно то же, что и во время грозы, когда встречаются два атмосферных фронта, в одном из которых тучи несколько темнее, чем в другом. И чтобы открылось ясное небо, нужно, чтобы эти тучи разрядились друг об друга и друг друга уничтожили, или чтобы уничтожилась сначала хотя бы самая темная из туч, а потом – другая. Как Гитлер и Сталин.
11 сентября надолго останется первой из великих скорбных дат, если не третьего тысячелетия, то 21 века. Но все-таки это лишь «оперативная память» всечеловеческой истории. Если обозреть ее более пристально, то обнаружится, что буквально каждый день в календаре заслуживает быть такой же великой скорбной датой. Ну, вот к примеру, хотя бы следующий день - 12 сентября. Я не могу назвать конкретного трагического события, унесшего в этот день столько же жизней, сколько 11 сентября, но уверен, что такие события уже были. Каждый день календаря заслуживает великой памяти и великой скорби. И вот именно поэтому каждый день заслуживает и великой радости и веселья. Ибо иначе и жизнь была бы бессмысленной. А этого мы допустить никак не можем.
10 сентября 2010 г.
Что такое психография
Психографиями я придумал называть биографии, в которых главное – не события жизни, а похождения души. Биографии психологические. События и дела, превратности судьбы, подробности жизненного пути важны для психографа как дневник пути внутреннего, как отчет души о своем содержании и развитии, устремлениях и борениях.
Кое-что в жанре, близком к психографии, уже написал: очерк о Лафатере в «Я и Мы» и «Искусстве Быть Другим», о Честерфилде и его сыне – в «Нестандартном ребенке», там же – кусочек психографии человека, зашифрованного под фамилией Клячко; очерк об отце Александре Мене в книге «Вагон удачи», психографические эскизы о Моцарте, Пушкине, Цветаевой, Швейцере – в «Одиноком Друге Одиноких», наброски о Корсакове , Маяковском, Прокофьеве… Пора, пора делать серию психографий художественных, развернутых, полнокровных – душа просит!
9 сентября 2010 г.
20 других лет с Александром Менем
Сказать «без него» было бы неправдой. Внутренне он все приближается. И все равно, такой близкий и родной, остается какой-то непостижимой тайной. И явление его, и… не подберу слова. «Уход», самое мягкое – тоже неправильно, ну, пусть будет «перемещение» (9 сентября 1990, три перевернутых шестерки тут как тут) – все это и пронзительно закономерно, и непонятно.
– Доктор, здравствуй, это я, Алик.
Слова эти, его обычное телефонное обращение ко мне – как только что сказанные звучат внутри, звучат, не переставая, все время где-то слышны…
Сегодня мы бы поздравили друг друга с библейским новым годом – 5771м.
Если считать, что у Бога, как сказано в Библии, тысяча лет за один день, то сейчас где-то вторая половина пятого дня творения…
8 сентября 2010 г.
Перелицованная зависимость?
После любовной неудачи спешно пускаться в новый роман опасно: рана еще не зажила, душа раздергана и обманывается слишком охотно. На войнах победы, одерживаемые сразу вслед за поражением, нередко бывают пирровыми. На любовных фронтах подавно. Неостывшие угли на пепелище могут дать новое пламя, подкинь лишь дровишек, но будет ли это новой любовью или только прежней зависимостью с измененным лицом?..
– А если прежде была только зависимость, принимавшаяся за любовь, от ее углей может вспыхнуть истинная любовь?
– Может, с той же повышенной вероятностью.
Из моей новой книги «ДОКТОР МОЗГ: психология психологов».
7 сентября 2010 г.
Слабость как будущая сила
Из сегодняшнего письма маме одного 14-летнего подростка
...Вы пишете, что он рос «ребенком, морально слабым». Я бы на вашем месте такого термина не употреблял, и вообще не считал его слабым, а принял бы, что его внутренние силы еще не успели развернуться и находятся в пассивном состоянии. Как бы в постоянной спячке. Таких детей и Корчак называл не слабыми, а пассивными.
Многолетние наблюдения показывают, что люди, начинающие свой жизненный путь вот такими пассивными, вялыми, ведомыми детьми и, почти такими же подростками и юношами (хотя некоторые резко меняются уже где-то в 16 или около 20) – если проходят более или менее благополучно свое трудное детство и тяжелую молодость, в возрасте, близком к зрелости, могут проявить самобытность, упорство, незаурядную силу воли – словом, все качества, которые раньше, казалось, были только в дефиците. И вот в это стоит поверить. Если поверите, хорошо поверите вместе с сыном – оно так и будет...
Продолжение – в одном из ближайших выпусков
моей рассылки «Конкретная психология»
|