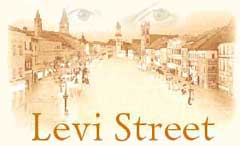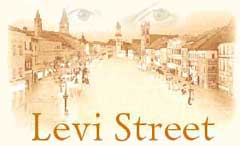продолжение
Не терять направления
Дорогой Миша! Тут нужно терпение и выдержка. Умение видеть грехи – искусство. Они умело маскируются и прячутся. Искусство не только в том, чтобы их видеть, но и в том, чтобы суметь их сжато формулировать. Конечно, если смутные ощущения кажутся грехом, то их можно и нужно нести на исповедь. Главное же – грех это личное наше стояние перед Богом. В чем я изменяю, в чем предаю Его и себя, в чем иду против Его воли? (для этого нужно и углубляться в Евангелие, чтобы эту волю понять и ей проникнуться). Для Вас основная цель: преобразовать собственные природные данные, чтобы они служили “служению”, а не препятствовали. Наша плоть (психофизика) может быть несобранной, вялой, порабощенной фобиями и неврозами. Тогда она плохой и неуправляемый инструмент. Нужна работа для улучшения этого инструмента. Что не значит: “стань другим”. Тем же! Но со знаком плюс. Трусость – становится мудростью и осмотрительностью, замкнутость – углубленным подходом к жизни, нервозность – тонкостью души и т.д. Да, Вы правы, наша терминология условна. Но ведь и вся терминология вообще (“лошадиные силы”, “амперы” и пр.) тоже условна. Благодать есть желанный опыт того, что Бог даром дает нам ощущение Своего присутствия. Мы просветляемся Его силой. Мы учимся благодарить за все и ценить все дары: снег, чай, книгу, трудность. Все – от Него. Смирение есть открытость к душе другого и к Богу. Это объективность. В то время как гордыня есть замкнутость, отъединенность, аномалия души. Прощение – радость примирения с Богом, освобождения от гнета греха. Святая церковь – понятие более туманное. В конечном счете это Сам Христос как Глава Ее. Он живет в Ней незримо. И то, что в ней от Него и есть ее святость. Остается искать – как это все относится к Вам лично. И не терять направления, как в горах, когда идешь вверх. Нужно не жить, а путешествовать.
Счастливого пути.
Ваш А.М.
Это, кажется, единственное письмо, полученное мной от о. А (полагаю, мои вопросы угадываются). Сам я часто писал ему письма – и просил на них не отвечать. Просто чтобы он мог “держать руку на пульсе”. На одно он почему-то – я того не ждал – ответил.
А вот еще запомнившийся, отпечатавшийся разговор. Я жаловался, что не читается Евангелие. Он:
– Это потому, что примелькалось, возникла привычка, это бывает. Для освежения восприятия стоит почитать в других переводах. Вы читаете по-английски?
– Да, вполне.
– Тогда я Вам принесу мою любимую книгу, которой сам пользуюсь с той же целью, – дам ненадолго, потому что она мне нужна.
Через неделю он действительно принес английский Новый Завет (осовремененный, по-своему маргинальный), поговорив о его достоинствах и недостатках.
– Молитва? Надо взять себе правило – и исполнять его. Каждый мусульманин молится пять раз в день, в любом месте, что бы ни происходило вокруг. Так же и индус. Возьмитесь за правило. Если не идет православное – пользуйтесь католическим, оно тоже достаточно древней традиции, хотя и выглядит более современно.
И важно размышлять, медитировать над Священным Писанием. Ежедневно. Над любой строчкой есть о чем подумать. Над любой строчкой. Это делается вот так (берет с полки Библию, раскрывает – наугад – Новый Завет, это оказывается Деяния 10:1-2. Читает вслух): В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Читаем внимательно. Корнилий – римский офицер, живущий в гарнизоне в чужой оккупированной стране, что не слишком способствует смягчению нравов. Но он – “боящийся Бога”. Вы должны знать, что “боящийся Бога” – это технический термин в Новом Завете, означающий, что тот был монотеистом, хотя формально не принадлежал к иудейской общине... “Со всем домом своим” – значит, его вера не была только где-то там, в душе, а распространялась вокруг.
Вот мы жалуемся на плохие условия. А там – какие условия? Да еще он “творил много милостыни” и “всегда молился”. Неужели тут не о чем подумать?
Стоит завести себе тетрадку и записывать туда результаты размышлений. Например: “Число такое-то, читал текст такой-то, мыслей не было... или: были следующие мысли...”
Такое вот введение в чтение Библии.
Он любил слова апостола Павла “для всех сделаться всем”. И не докучал религиозными разговорами тем, кто пришел к нему поговорить о, скажем, житейских проблемах или о философии. “Когда ко мне приходит новый человек, мне практически все равно, о чем с ним говорить, хоть о собачках”. Наверное, потому, что человек для него был священен независимо от, и все темы были – религиозными.
Однажды я пожаловался, что не могу читать наши – отечественные – книжки о духовной жизни, хотя и понимаю, что это нужно. Он: У меня – то же самое. Я тоже не люблю их читать. И тут есть определенная причина. Они как будто стремятся создать свою обособленную от жизни среду, где говорят на своем особом языке. Это – эскейпизм. Так Феофан Затворник – современник Пушкина, Гоголя, Тургенева – пишет невиданно устарелым языком, который невозможно воспринимать, несмотря на его духовный опыт... А, скажем, западный епископ и писатель XVII века Франциск Сальский пишет свои книги о духовной жизни, не отставая в языке от современных ему светских писателей...
Церковь, или Будем меняться сами
Любопытно, что он часто отговаривал тех, кто хотел “посвятить себя Церкви” профессионально и стать кем-нибудь – от алтарника до священника (архиерея?). Вспоминаю многочисленные житейские истории, рассказываемые о. А, на эту тему: про врача, который, втайне чувствуя свою профессиональную неполноценность, становится священником, не имея к тому ни призвания, ни природных данных; о поэтах, которые торжественно кидают в печку – тут огонь смотрится красиво – свои (плохие) стихи, чтобы потом рассказывать о том, как “я от все отказался ради...” (один из таких поэтов, ВВ, кстати, став священником, сменил литературный жанр – перешел на анонимные памфлеты против о. А). “Он мне говорит: “Поэт – это не от Бога”. А я отвечаю: “Конечно, бросай писать!” Я же вижу, что он не поэт. Настоящий поэт не может жить, когда не пишет. Вспомните Иоанна Дамаскина, что вышло, когда ему в монастыре запретили писать”. Он размышлял об алтарниках с двумя высшими образованиями или о храмовых интеллигентных истопниках: Мистика на самообслуживании: все противно, а я уйду, буду с Богом наедине... В юности у меня тоже было такое искушение. Но любовь требует идти в мир. Скорее он призывал искать хорошую, интересную и полезную людям работу, куда можно себя вкладывать.
Нельзя назвать о. А диссидентом, в чем его нередко упрекали, когда он чего-нибудь не подписывал. Тем, кто проклинал коммунистов, он напоминал, что Христос жил при иродах и римлянах, но Его это сравнительно мало заботило, редко Он выступал против властей, а обличал преимущественно людей церкви того времени – фарисеев.
Сидел я однажды около храма на лавочке, а жена, разговаривая с о. А в десяти метрах от, указала на меня и сказала шутливо: “Вы знаете, он – протестант, он акафистов не любит”. О. А быстро приблизился ко мне, наклонился к моему уху и сказал: (шепотом): Я – тоже. (и громче) Но надо терпеть.
В начале перестройки он говорил: Это трагедия, что сейчас люди ждут от церкви всего. А там – застойные явления похуже, чем в обществе.
А вот его более старый (первой половины 80-х?) политический прогноз: Мы с вами живем при агонии системы. Она умирает, но может делать это долго, хоть сто лет; во всяком случае, на наш век хватит. Это как отрезали у дерева корни – и сидят ждут, когда же появятся плоды...
И до всякого намека на перестройку он говорил слова, тогда удивляющие, а нынче – уже нет: Почему вы жалуетесь, что сейчас трудные времена для Церкви? Церковь гонима? Так поймите, что это и есть нормальное положение Церкви. Кошмарно, когда Церковь начинает гнать! Советская власть – это как особые климатические условия, с которыми надо считаться. Живут же люди и за полярным кругом в условиях вечной зимы... А представьте себе, настанет день, когда нам скажут: “теперь все можно, идите сюда, говорите”. Мы вылезем из подполья, откроем рот... И окажемся не готовы! Вот это и будут трудные времена, настоящее испытание для Церкви. Хорошо помню – воспринималось как научная фантастика (он, кстати, любил читать фантастику и не любил – детективы, говорил: я обычно идентифицируюсь с преступником, и становится неприятно), как мысленный философский эксперимент. И вот – дожили...
Потому относительная свобода последних его лет лишь чуть-чуть изменила формы служения – и не более того. Один священник, оказавшийся на конференции в Западном Берлине вместе с о. А, пересказал мне такие его слова: “Теперь у меня почти все спрашивают: как Вы работаете с молодежью? А вот в прежние годы меня об этом спрашивали – только в одном месте”. Я же вспоминаю его комические рассказы про ту поездку: как, к удивлению западных людей, он боялся оставить без присмотра свой чемодан – а не унесут? А конференцией и западным христианством был скорее разочарован. Говорил, там совсем другие люди: вежливые, сытые, поскольку очень хорошо питаются, покажи им палец – смеются и аплодируют. А на богословской конференции охотно обсуждают политику, экономику, а о самом главном, о Христе, – им неинтересно. Так что там – духовная пустыня. А если хотите увидеть христианскую жизнь – поезжайте в Польшу, не дальше... У наших людей есть огромный духовный потенциал, огромная жажда, бесформенная и дикая, легко довольствующаяся суррогатами и неизвестно чем. А на Западе этого совсем нет.
А вот еще коллекция воспоминаний из доперестроечной жизни.
– А почему бы нам не пойти топить еретиков? – спросил он как-то. – Ведь такая практика в церкви у нас была. Владыка Геннадий новгородский писал комментарии на Библию, а в перерывах от трудов топил еретиков в Волхове и размышлял о том, как бы ввести и у нас “по примеру гишпанского короля” инквизицию. Да, на Западе была инквизиция, хотя ее ужасы преувеличены. В Испании же она была чем-то вроде государственной тайны полиции, королевской инквизицией. Но все равно это грех. И католическая церковь в этом грехе публично покаялась. И это важно. А у нас этого не было, значит, мы можем топить еретиков.
Трудно сказать, когда это началось, но церковные структуры у нас засклерозировались достаточно рано. И – раболепство перед властью. Дело тут не в народной душе – у поляков душа совершенно такая же. Дело в церкви. У нас совсем не было социальных протестов. Зато – люди шли на костер, защищая двуперстное крестное знамение. Лучше бы протестовали против тиранов. Иван Грозный – человек, действительно, ненормальный, но дело не в нем, а в том, что он был возможен. Только потому, что не встречал отпора...
И у нас народ – под народом я имею в виду не рабочих и крестьян, а лучших, активных, думающих людей общества – именно народ отвернулся от церкви. Было бы иначе невозможно закрытие храмов и прочее. Сначала народ ее покинул, а потом все произошло. У поляков это не так. Так что надо начинать покаяние с нас самих, с церкви.
А в районе Тысячелетия Крещения Руси он делился впечатлениями от популярного фильма: Я смотрел фильм “Покаяние”, и нашел там покаяние – только в названии. На торжествах по поводу юбилея слышал только возвышенные речи о том, какая святая и прекрасная наша церковь, и ни одной нотки покаяния. А без покаяния невозможно обновление жизни.
Много говорил о необходимости изменений в церковной практике, а потом добавлял: “Мы не в состоянии менять ничего в Церкви сами. Пусть будет какая есть. Поэтому – будем меняться сами”.
И – без борьбы за реформы – много чего делал.
Дух, карточные домики, общинки
Уже в перестроечное время он вовлек меня в катехизацию (для желающих креститься взрослых) – я вяло отказывался, полагая, что это – не мое. Я сказал как-то, гораздо раньше: “Я никогда не смогу говорить о Боге так утвердительно, так “позитивно”, как Вы”. Он: А Вы не будете говорить, как я. Это ненужно. Вы найдете свои, Ваши слова. Тут он весь – “просто сельский священник”, не оставивший “своей школы” и полный доверия к другим.
Короче, я оказался в группе катехизаторов, как о. А говорил, “третьего (может, последнего? или обман памяти?) призыва”. Мы регулярно встречались – в расширившейся теперь (в результате архитектурной перестройки, кажется, последовавшей за политической) комнатке, а в теплую погоду – на кладбище у церкви.
Где-то ближе к концу о. А говорил о трудностях, которые перед нами встанут (пользуюсь конспектом).
1. Нужно не быть “глухарем”. Слышать твою аудиторию. Иначе люди будут разбегаться. И это будет неправильный подход – не только в утилитарном смысле, но и в духовном – неправильно. Надо начинать с того, что волнует этого человека, говорить на его языке: философия – так о философии, политика – так о политике. “Для всех сделаться всем” – не приспособленчество, а правильная установка.
Кто-то на лекции спросил меня про “опиум для народа”. Зал рассмеялся. Я же сказал: “Да, это верный вопрос”, – и показал, как религия, да и другие хорошие вещи могут стать опиумом. Зачем? Чтобы человек мог услышать...
2. Застенчивость. Как говорить о таких вещах? Есть у нас здоровое целомудрие, и, действительно, не все надо вываливать. Но есть и отвычка за множество лет молчания – говорить о своей вере.
Надо найти верный тон. Все новое воспринимается людьми очень сложно, надо сто раз повторять одно и то же. Не бояться свидетельствовать, но избегать затертого словаря, иначе тебя не услышат.
Вообще, катехизация – это свидетельство, а не просто рассказ. Надо предварительно молиться – и Дух даст говорить то, что нужно.
3. Всегда у нас будет искушение: поставить себя, свою личность выше Слова Божия. (Следует история об одном катехизаторе, который, уйдя от жены к другой женщине, устыдился, что живет не так, как учил, – и покинул и свою общинку, и приход. О. А потом долго спрашивает присутствующих: в чем тут главная ошибка? Ответ: не в поступке, а в том, что тот катехизатор не мог признать свою слабость перед бывшими “учениками”). Такое обязательно появится и у нас.
На этих занятиях, кроме информации, он передавал какое-то дыхание жизни, свет, дух – или Дух. Вообще, он не слишком высоко ставил систематическое богословие, смеялся над попыткой дать “школьное”, короткое определение понятию Церковь, называл дефиниции и концепции богословов карточными домиками...
Вот что он там говорил о Святом Духе.
Об этом Лице Святой Троицы почитать решительно нечего. Ну, может быть, что-то у баптиста Каргеля. Можно сказать так, – весьма условно, конечно, – Отец – источник всего, Сын – связь с нами, а Дух – Его присутствие. Итак, мы можем сказать неофиту: Дух – это Его присутствие, особая “ипостась” по-старому. “От Отца исходящего” – потому что Отец как бы по ту сторону бытия, Дух – по эту... Filioque добавили, чтобы не унижать Сына. Споры о том, как правильно “исходит Дух”, бессмысленны. Данных о том, “как устроен Бог”, у нас нет. Если вы найдете человека, который может объяснить, как и от кого исходит Дух, приведите его ко мне... Просто, я хочу на него посмотреть...
“Нехорошо человеку быть одному” – о. А относил эти слова не только к мужу и жене.
Много-много лет я участвовал в общинке, которую не описываю тут, тем более, что она еще не стала покойницей. Такую форму о. А придумал сам (малый формат соответствовал духу советского времени – больше 12 не собирайтесь), а уже потом узнал, что подобное есть на Западе, – и возрадовался.
Как и люди вокруг о. А, общинки были очень разные. Иногда это был немножко поиск, эксперимент – при сохранении трех базовых начал. Про одну я много с ним советовался – все разговоры были конкретные, и в памяти не осталось глобальных указаний. То есть факт: никакой попытки создать единый Устав и тиражировать общинки (как то делается, скажем, у о. Гергия Кочеткова) – не было. О. А старался посещать свои общинки – хотя бы раз в год. Как-то сказал мне: “Когда Вы ведете собрание, на каждом надо готовить что-нибудь неожиданное, сюрприз”.
А однажды – начало уже перестройки – он послал меня на квартирную молитвенную встречу пятидесятников: Я хочу, чтобы Вы посмотрели, может быть, найдете что-нибудь ценное для общины. (Добавлю, что в этот момент рядом стояла девушка, которая сказала: я тоже хочу, а он: Да, но сначала Вам тогда надо сходить в костел, на Малый Вузовский, в синагогу и в мечеть... – то есть шутливо ее не пустил). А потом, слушая мой рассказ-отчет о том, что я видел и чувствовал, сказал – скорее к моему удивлению: Да, это было присутствие Святого Духа – там действительно собрались духоносные люди.
Тут стоит добавить, что он не придавал особого значения глоссолалии, языкоговорению, весело обзывая этот феномен “дадаизмом”, но считал, что пятидесятники – это вызов нашей духовной жизни, что мы тоже должны ревновать о крещении Духом и что “все это, все хорошее, что там есть, может быть и в нашей церкви”. Об этом он написал, впрочем, свое известное “Открытое письмо...”. Он говорил, что крещение Духом – обязательно для христианской жизни, но происходит очень по-разному, не обязательно в такой-то день или час, не всегда ощутимо и с громкими проявлениями. И что каждое наше “обращение – и есть наша личная Пятидесятница. Наше благословение на служение”.
Еще воспоминание, загадочное и потому хорошо запомнившееся. Группа катехизаторов после встречи с о. А (почти конец “курса”), где говорилось о Церкви, пьют чай в церковном домике. Вдруг из своей комнатки выходит о. А с Библией в руках, останавливается на пороге, какое-то время озирает собравшихся, надевает очки, открывает книгу и говорит: Вот что я нашел в Писании. Это про нас. Хочу вам прочесть:
Знаю твои дела.
Вот, Я отворил пред тобою дверь,
и никто не может затворить ее;
ты немного имеешь силы (совсем, на деле, не имеем), –
далее, как бы смутившись, приостановился, один стих проглотил, и читал дальше:
и сохранил слово Мое,
и не отрекся имени Моего (это мы кое-как сделали)...
И как ты сохранил слово терпения Моего,
То и Я сохраню тебя от годины искушения,
Которая придет на всю вселенную,
чтобы испытать живущих на земле.
Се, гряду скоро;
Держи, что имеешь,
Дабы кто не восхитил венца твоего.
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего (ну, это уже преувеличение. Какие уж там столпы?).
Кажется, тут и остановился – точно не помню, – а может, и дочитал эти обещания до конца. Но сцена, повторяю, запомнилась, поскольку совершенно была не в стиле и просто вызвала удивление.
Друг Жениха
Он редко делился с нами трудностями, не то чтобы скрывал, но упоминал мимоходом, как нечто малозначащее, шутливо. Посему обо многом можно только догадываться – или не стоит и пытаться. Посему соответствующие воспоминания очень зыбкие, неоднозначные, и не в духе отца Александра их публиковать...
Кое-что, тем не менее. Говорил он, что с раннего возраста осознанное служение требовало многих ограничений. Говоря о режиме, сказал, что сам по натуре – “сова” и лучше себя чувствует вечером, но приходится рано ложиться и работать поутру. Говорил мне даже, что он по натуре человек необщительный (?!), склонный к кабинетной жизни, мог бы стать книжным червем, но “зная эти свои особенности, старался их преодолевать и общался с людьми”. Даже сказал как-то, смеясь надо мной и со мной, что всегда боится звонить по телефону, – ему кажется, что не соединят, что не туда попадет...
Всерьез говорил о дьяволе – изредка: как кого-нибудь крестит, так ждет неприятностей – внешних или внутренних. Как-то рассказывал, что настолько его затравили в Новой Деревне, преимущественно староста, что он всерьез собрался уходить, проситься на новое место. И в туже ночь, как он это решил, староста умирает. А чуть ли не на следующий день его вызывают в ГБ – и начинаются новые испытания. Как закон сохранения энергии.
Так и вижу: стоит отец Александр на крыльце домика, на лицо набегает черная туча. – Что с вами? – Скорблю о глупости человеческой.
Но в целом трагическая сторона как жизни, так и смерти о. А остается закрытой.
Знаете, Миша, для того, кто вверяет себя Богу, все окружающее, все события становятся неслучайными, они все происходят как бы в поле Бога. – Не помню, по какому поводу так он сказал...
Так часто он говорил в непонятных, страшных и непредсказуемых ситуациях: На все воля Божия. Отмахиваясь от тревог, от нелепых, но свойственных людям попыток предугадать все возможные варианты.
Одна женщина допытывалась с докучной настойчивостью: “Отец, а как же все-таки узнать, какова воля Божия о тебе?” Он: На самом деле, все мы почти всегда знаем волю Божию о нас, знаем, чего хочет от нас Бог. Когда мы говорим, что не знаем, чаще всего это самообман.
Идя с одним человеком (передаю, стало быть, с чужих слов) он, поглядев на лес, сказал: А знаете, о чем я сейчас мечтаю? Вот лес – так пойти бы в него и идти-идти. И я мог бы идти не один день. Но – невозможно, дела.
И еще как-то мимоходом обронил примерно такие слова: Если бы Бог в один прекрасный день сказал мне: “Оставь этот приход и иди куда-то на новое место”, – я бы ушел без большого сожаления.
И вот – ушел. Мне должно умаляться, а Ему расти. Он любил Иоанна Крестителя. И похороны выпали на день Усекновения главы. Приготовил встречу с Женихом тем, кому смог, и отошел, радуясь за других. Он, в самом деле, удивительно мог радоваться чужим радостям – больше тебя самого.
Однажды разговор шел о первых днях после смерти, кто-то рассуждал о том, как умерший оттуда смотрит на нас. Отец Александр произнес: Вообще-то, думаю, что после смерти обычным людям не до того. Есть, наверное, только две категории людей, которые после смерти – совсем по разным причинам – остаются привязанными к земле. Это – преступник и святой.
А вот, в качестве заключения, слова из Писания, слова Христа об Иоанне Крестителе, звучащие во мне, когда я думаю об отце Александре:
Он был светильник, горящий и светящий;
А вы хотели малое время порадоваться при свете его.
|