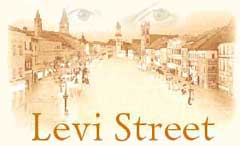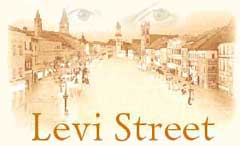История одной макулатуры
из мусорки «Автопсихография»
по следам «Охоты за мыслью»
…И снова черновик, и засмеяться,
и строчки слабые стереть…
Мне, чтобы выжить, нужно состояться,
а чтобы состояться, умереть.
Совершенство, не убивай меня, не спеши,
я и сам для себя не фамильная драгоценность,
а случайная брызга Твоей души,
но без части страдает целость…
Не выбрасывайте черновики,
это жизнь –
не выбрасывайте, подождите,
дайте им подышать у ночной реки.
Не выбрасывайте.
Сожгите.
Мемуары – ужасный жанр, много раз клялся себе никогда их не писать. Но куда деться от памяти?.. Жизнь – поток памяти, утрачиваемой и обретаемой, – движение памяти, создающее иллюзию движения времени. Память может быть учебником, лекарством, молитвой, искусством, праздником. Преступно хоронить свою память вместе с собой, если чувствуешь, что какие-то извлечения из нее могут кому-нибудь или чему-нибудь хорошему пригодиться.
Две тысячи восьмой год. Застольный разговор в малознакомой компании. Меня представляют солидной, грудасто-задастой, самоуверенной бизнесдаме.
– Владимир Леви?.. Аа, книгу вашу читала когдато. «В погоне за мыслью», кажется.
– «Охота за мыслью».
– Вотвот, охота. Ну и как вы, поймали мысль?
Хотелось ответить: а как же, прямо за ...
– Не поймал, зато согрелся.
«Охота за мыслью» (ОМ) и в самом деле оказалась для меня книгой разогревательной. – Но еще до нее успели опубликовать несколько очерков, замеченных публикой; в них и стихи ваши уже проклюнулись. Вот, запомнилось:
«Под глухой и мерный рокот эскалатор, серый робот, разлучить скорей стремится человеческие лица... Поручни, как анаконды, под ладонями Джоконды... О догнать бы, заглянуть бы в лицамысли, лицасудьбы тех, что скрылись в тесноте на ступенчатом хребте...»
– Журнал «Знание – сила», очерк о физиогномике.
– В ОМ, правда, в отличие от следующих книг, ни одного вашего стихотворения не обнаруживается.
– На то есть причина.
Оперение психиатра
Писать ОМ я начал в 27, а вышла книга, когда мне было без малого 29, в 1967 году. В это время четверо из пяти главных героев нашей теперешней книги – Олдс, Скиннер, Дельгадо и Хиз были живы и славны, вовсю трудились. А я, отслужив три года психиатром в больнице Кащенко и еще три года в психиатрической клинике 1-го Мединститута, защитил кандидатскую диссертацию и пошел в районный психодиспансер на должность амбулаторного психотерапевта. Принимал уже далеко не только душевнобольных: это была работа и психиатра, и практического психолога в одном флаконе. Занимался врачебным гипнозом, групповой психотерапией и психодрамой, увлекся аутотренингом, телесно-освобождающими и дыхательными психотехниками. (Описал потом этот опыт в книгах «Я и Мы» и «Искусство быть Собой»). С пациентами общался с утра до позднего вечера, читал и писал в основном ночами.
Печатало ОМ московское издательство «Молодая гвардия». Научнопопулярная редакция этого издательства выпускала тогда серию «Эврика» – книги об исканиях и достижениях в разных областях науки, написанные известными учеными. Я не был известен. Как автора, подающего надежды, меня сосватали в «МГ» мои редакторы из журнала «Знание – сила»: Лена Сапарина и Анатолий Варшавский, оба хорошие писатели. Привели к своей приятельнице Людмиле Даниловне Антонюк, редактору «Эврики», и сказали:
– Это Володя Леви, психиатр с пером. Ему пора книгу делать.
– Хм. Ну, давайте попробуем, – сдержанно сказала Людмила Даниловна, дама средних лет с короткой стрижкой и в громадных очках. Хрестоматийноредакторская внешность. С перепугу Л.Д. показалась мне страшно свирепой, что потом оправдалось едва ли на пять процентов, а лицо ее без очков оказалось беспомощно добрым. Но это позже, когда мне довелось помогать ей врачебно.
– Пишите о чем хотите, лишь бы касалось вашей специальности, – сказала она высокомерным баском. – И чтобы интересно было широкому читателю. Название очень важно. Яркое, интригующее, чтобы выражало суть книги. Ну, мы над этим поработаем вместе, – пообещала Л.Д. с мрачноватой улыбкой.
Так началась моя книжная жизнь.
– Начиная, уже знали, о чем и как писать, план книги был?
– О чем – знал: о том, чем занимался, что было интересно мне самому. Как писать – не знал. Плана не было. Л.Д. предложила мне написать заявку на книгу и поглавный проспект. Заявку должно было утвердить издательское начальство, с обязательной в те времена «проверкой на вшивость» – подтверждением идеологического соответствия. Понятно было обеим сторонам, что это, как и поглавный проспект, лишь удостоверение на проходной. Чувство при подаче заявки было такое же, как при обыске перед входом на самолет.
«Давай мне мысль какую хочешь»
Первый вариант написал за полтора месяца (у психиатров был в те времена 48-дневный отпуск, самый большой среди медиков – за вредность работы), осенью, сбежав из Москвы на берег Черного моря, к Кавказским горам, в Пицунду.
Жил посреди густой южной зелени в крохотном частном домике, в полном уединении, если не считать маленькую собачку и котенка, которых хозяйка, уехав, оставила мне на попечение. Питался хлебом, чаем и дешевыми местными мандаринами. Рядом было море, шум осенних штормов – и сосны, вековечные длинноиглые пицундские сосны. Неподалеку, в конце кипарисовой аллеи, посаженной францисканскими монахами, когдато здесь обитавшими, – дивный средневековый храм, а чуть дальше – одетые снегом вершины.
Маленький деревянный столик, заваленный черновиками. Днями и ночами писал, иногда выбегал к морю под солнце или под луну.
Добавьте ко всей этой романтике состояние безумной влюбленности в Далекую Прекрасную Незнакомку, двадцать семь лет, писательскую неопытность, амбиции, непонимание, как надлежит писать вещи большого объема для широкой аудитории – и вы, быть может, не слишком удивитесь тому, что первая рукопись первой моей книги была написана сплошь стихами.
– Триста с лишним страниц – за полтора месяца – сплошь в стихах?
– С неотвязной мыслью, что Лермонтов состоялся уже в 26, а через год погиб.
Получилась многосюжетная стихотворная пьеса про Вселенную Психики, где есть Планета Сознания, а на ней Империя Мышления, Страна памяти, Океан Подсознания, Королевство Эмоций и прочая, включая державу Вообразилию, которую потом независимо от меня придумал для детей Борис Заходер. В каждой главе были персонажи со своими характерами, воплощавшими, как у Метерлинка в «Синей птице», души вещей – только у меня не вещей, а систем и функций организма и психики. «Я – король Королевства Эмоций, Всемогущий Эмоционал. Кто тут в верности мне не клянется? Кто господство мое не признал?»
Сколько сумасшедших домов нужно миру?
– Душевное развитие состоит в убавлении неосознанности и прибавке осознанности.
– И обратное происходит: осознанное идет в подсознание, делается интуицией. Сознание постоянно освобождается от себя.
Имир и Мири. Домашние диалоги
– Напомню, дело происходило во времена, когда любого человека, поведшего себя идеологически неправильно, могли сразу отправить за решетку или в психушку.
– Хрущевская оттепель толькотолько закончилась.
– Да, и впереди еще было вторжение в Чехословакию, процесс Синявского и Даниэля, афганская война, высылка Бродского...
«Молодая гвардия» была номенклатурным комсомольским издательством, и хотя на редакторских должностях там работали в большинстве люди симпатичные, расставаться со своими теплыми местами ни у кого желания не было. И когда молодой психиатр вместо ожидаемой научнопопулярной, в меру веселой, но непременно серьезной и лояльной прозы выложил на стол растрепанную рукопись, кишащую рифмами...
Надо отдать должное Людмиле Даниловне – у нее был большой стаж работы с неадекватными авторами, сильный характер и недюжинная выдержка опытного бредпринимателя.
– ?..
– Как и я раньше еще убедился, подрабатывая литконсультантом в журнале «Семья и школа» – тоже вполне себе бредпринимательская работка, – почти все люди, в жизни болееменее нормальные, в качестве авторов грубо неадекватны. Особенно производители объемистых, пухлых текстов – тут уж просто не обойтись без диагноза.
– Вы всерьез?
– В любое популярное печатное издание доинтернетных времен каждый день приходила громадная почта, поток писем. Среди разного прочего слали и рукописи – с надеждой их напечатать, а часто и с категорическим требованием. Рассказы, очерки, повести, романы, статьи, трактаты, стихотворения и поэмы, пьесы, сценарии, воззвания, манифесты и прочая, включая произведения, состоящие из ненормативной лексики. Первым весь этот вал принимал на грудь работник, называвшийся литконсультантом. Он должен был все это читать и фильтровать – отбирать немногое, что кажется подходящим для публикации, и передавать для рассмотрения в редакцию. А остальное отбраковывать.
– Представляю, сколько всякого вам пришлось начитаться.
– В бредпринимательские обязанности входила и переписка. Каждому автору, рукопись которого к публикации не принималась, нужно было написать личное письмо – отказ с объяснением. Делать это требовалось деликатно, нежно и ласково – так, чтобы автор не обиделся. Задача не обидеть, как я убедился, в подавляющем большинстве случаев не выполнима, даже при самых изысканных психотерапевтических ухищрениях. Работа небезопасная: некоторые из получающих отказ склонны к мести.
– «Наш журнал недостоин вашего гениального произведения»?.. Так вот где вы нарастили бредпринимательское терпение и отточили эпистолярное мастерство. Считается ли графомания психическим заболеванием?
– Не считается, иначе по всему миру пришлось бы понастроить столько сумасшедших домов, что их земля не вместила бы. Процентов девяносто книжной продукции подлежало бы свозу в клинические музеи, а интернет нужно было бы считать расширенным филиалом больницы Кащенко.
– Да оно так и есть, бредлам.
– Не будучи болезнью как таковой, графомания может (но не обязательно) быть одним из сопроводительных признаков какогото душевного недуга или неизжитых комплексов, психопатии или психического заболевания, даже распада личности. В последнем случае, важно заметить, графомания есть знак того, что душа человека распаду сопротивляется.
– И вы, и другие авторы писали, что всякое творчество, в любом виде, даже самое беспомощное, может быть средством душевного оздоровления и саморазвития. Есть и термины для этого: арттерапия, креатерапия – лечение искусством, лечение творчеством.
– Все так, но одно дело творчество как состояние, как самовыражение и самолечение, и другое – как производство: создание плодов творчества – произведений. Плоды должны иметь некое качество. Если человек творит просто для себя или для своего ближнего круга – родных, друзей, знакомых – для тех, кому это может быть интересно и может нравиться – ради Бога. Самодеятельность – дело доброе и прекрасное, как оздоровительный спорт. Но искусство – иное. Искусство – работа для круга дальнего.
Психология графомана, изученная подробно, приоткрыла мне нечто важное не только для графомана, но для любого человека, для каждого.
– ?..
– То, с чем человек себя глубинно отождествляет. Что потом я определял то как круг свехзначимостей и сверхценностей, то как зону неприкасаемости или избирательной некритичности, то как обитель внутренних идолов, заповедник бредов.
Некритичность, неадекватность в самом важном, в сверхзначимом и сверхценном – удел всех живых. Почему врач, если только он не суперфлегматик, не может лечить ни себя, ни своих близких, любимых, даже отлично зная, как это нужно делать, даже прекрасно умея?.. Потому что зашкаленно мотивирован – дрогнет рука, дрогнут мозги... Гипермотивация все сметает, ни с чем не считается и ничего не понимает. Всемогущий Эмоционал с его райско-адским рычагом, о котором мы толковали на протяжении всей этой книги, – вцепляется мертвой хваткой в лобные доли мозга и все остальные – и тащит их, как слепой зверь, не ведая куда, – тащит на страшный суд действительности, какова она есть, каковой не хочет знать и от каковой с потрохами зависим.
Вот и я сверхценное забредье свое в виде стихотворной ОМ приволок в «Эврику» пред ясные очи Людмилы Даниловны, удвоенные редакторскими очками. Плюхнул на стол толстую папку, ожидая диагноза.
– Вы хоть лирическую неожиданность эту свою попытались както смягчить? Предупредили Л.Д., сдавая рукопись, что она в стихах?
– Предупредил уже на месте. С учащенным сердцебиением, хриплым от волнения голосом промямлил приблизительно следующее:
– Извините меня, пожалуйста. Некоторое отклонение от первоначального заявочного синопсиса по ходу конкретной работы, вероятно, закономерно Творческий процесс предъявляет специфические инновационные требования. Для раскрытия представленных в планпроспекте тем в их совокупности потребовались несколько неожиданные решения, в частности, изложение материала современных исследований мозга и психики в стихотворной форме, что нисколько не умаляет достоверности приводимых в работе фактов и их научных интерпретаций, а напротив, подчеркивает...
Л.Д. из этого бреда, как видно было, не все поняла, но слушала терпеливо.
Выдержала паузу. Долго листала мой опус взад и вперед, посверкивая тяжелыми очками. Цепко выхватывала тренированным взглядом одну строфу, другую...
В мозгу крысином электрод
вкусней, чем с сыром бутерброд;
педаль под лапой – дверца в рай:
жми – отпирай!
Еще одна пауза потребовалась Л.Д., чтобы обдумать, в какие слова облечь то, что она должна была мне сказать. Она даже закурила на рабочем месте, что редко себе позволяла.
– Так... Уважаемый Владимир Львович. Хорошо, что вы сдали рукопись несколько раньше срока. Вы, конечно, и сами понимаете, что это...
Вздохнула. Еще полистала рукопись. Еще раз вздохнула.
– ЭТО НЕ ПРОЙДЕТ.
Тихо сказала. Тихо и твердо. Взгляд устремила изпод очков кудато мимо меня. То ли в окно, то ли на потолок.
Теперь паузу выдержал я.
Вообщето я так и знал. Так и знал, что ЭТО мне завернут с порога. На что надеялся, непонятно. Безумие в чистом виде: изнасилование левого мозгового полушария правым. Сидел, краснея, потея и все понимая. И все же идиотски спросил:
– А почему?
Л.Д. проникновенно заулыбалась и тоном опытного бредпринимателя, каким говорят с тяжелыми душевнобольными, каким и я со своими пациентами разговаривать поднаторел, – принялась объяснять.
– У нас не редакция поэзии. И не редакция фантастики. Мы издаем научнопопулярную прозу. С любой степенью художественности, мы это приветствуем. Но только прозу, понимаете?.. Только прозу, а не стихи. Даже если вы мне, допустим, принесете из ряда вон гениальные стихи, читать их как редактор я не имею права. Если их и напечатают, что практически исключено, широкий читатель, поверьте, их не прочтет. Понимаете?.. Это совсем, ну совсем не то. Это не пройдет ни в какие ворота. Принесите нам, пожалуйста, нормальную книгу. Договор можем пока не расторгать. Дадим вам отсрочку.
Сгреб папку в охапку, ушел. Примерно через полгода принес прозаический вариант – все то же самое, только другим мозговым полушарием. Рукопись не отвергли. Завернули на доработку. «Написано содержательно, но для широкого читателя слишком сложно. Попроще, пожалуйста. Издательство у нас молодежное», – настойчиво попросила Л.Д.
Я разозлился, решил в «МГ» больше не появляться. А через месяцдругой както сам собой написался принятый в печать вариант первого издания.
– А что сталось со стихотворным, он у вас сохранился?
– Нет. Сжег.
– ?
– Дотла. В загородном лесу, ночью, на речном берегу. Костер был красивый.
– Копию хоть оставили на память себе и потомкам?
– Нет. Я и много другого своего посжигал. Убедился: что надо – в голове остается. Не в голове, так в душе.
Человремя, или Не всегда хорошо то, что красиво
– Люди, не умеющие слушать, более прочих нуждаются в том, чтобы выслушали их.
– Но кто слушать не умеет, тот ведь и сказать не сумеет так, чтобы быть услышанным?..
Имир и Мири. Домашние диалоги
– Мы говорили о диагнозах. Для случая со стихотворным вариантом ОМ самодиагноз имеется?
– Графомания натуральная. Острый приступ.
– Но ведь вы уже первыми публикациями убедили и разные редакции, и читателей...
– Публикация ничего не значит. Графоманов и печатают тоннами, и читают массово, и премиями награждают.
Графомания означает буквально: письмоодержимость, неодолимое влечение писать. Но давно уже слово это получило значение расширительное. Есть графоманыживописцы, графоманыкомпозиторы, графоманыпевцы, графоманыактеры, графоманыкинематографисты, графоманыфотографы и так далее, не говоря уж о «манах» устного жанра, «рассказчиках неукротимых».
Особый разряд – графоманыученые и графоманыизобретатели. Две самые опасные категории – графоманыполитики и графоманыврачи.
Не только писать, но вообще – творить, производить, делать чтото можно прекрасно, то есть гениально, можно хорошо, то есть талантливо, можно нормально, приемлемо, то есть профессионально, а можно плохо, негодно, то есть по графомански.
– По пятибалльной системе лесенка у вас выстроилась, от пятерки до двойки. Гений – отличник, талант – хорошист, профессионал – троечник, всегото навсего?
– Талантливый человек может сделать чтото и гениально, на пять с бесконечным плюсом, и на трояк или хуже. Профессионалу разрешается быть и гением.
– Отличником и сверхотличником?.. Но графоманто уж точно – двоечник или хуже того, единичник какойто или нулист?
– Я бы сказал – лишнист.
– ?..
– Первый мой литературный наставник, писатель и сценарист Анатолий Шварц в ответ на мой дурацкий вопрос «как научиться писать?», в смысле – писать хорошо – ответил коротко: «научись вычеркивать». И добавил: «Написать всякий всякое может. А вот ты попробуй вычеркнуть. Правильно вычеркнуть». – «А как правильно?» – «Убирай все, чего может не быть. Оставляй только то, чего не может не быть. Отбор на выживание, как в природе».
То же самое, как потом я узнал, говорил композитор Брамс: «Чтобы создать хорошее произведение, сперва нужно правильно написать много нот, а потом много нот правильно вычеркнуть».
– И писателиклассики многие говорили подобное, и ктото из великих скульпторов: «беру камень, отсекаю лишнее – получаю нужное».
– Вотвот, графоман и отличается всего более нежеланием иили неумением убирать лишнее, и нередко это лишнее занимает все или почти все произведение Может быть уравновешенным человеком с адекватной самооценкой, но не критичен к себе как автору: не способен – или не умеет, не обучен, случай не безнадежный – представить, как его творения воспримут другие.
– Можно ли по тексту произведения отличить необученность от неспособности, непрофессионализм от бездарности? Перспективность, пускай с малыми шансами, от безнадежности?
– Иногда легко, с одного взгляда. Иногда очень сложно. Немаловажный вопрос: а судья кто? – кто оценивает, кто эксперт? И в каком находится состоянии?..
Если оценивающий – мастер жанра, в котором ему доверена творческая экспертиза – допустим, известный поэт, читающий стихи неизвестного, – то суждение его о читаемом будет, конечно, весьма весомым. Но будет ли верным – вопрос. Творческая сила и оценочнокритическая компетентность взаимозависимы не линейно. Как не всякий хороший читатель способен хорошо писать, так и не всякий хороший писатель – хороший читатель. Есть самостоятельное, великое искусство читать, есть искусство воспринимать искусство.
Автор может понравиться или не понравиться мэтру по какимто личным мотивам, к искусству не относящимся. Может быть, по причине творческой самовлюбленности корифей одобрит только своего подражателя – или, наоборот, по той же причине отринет, приняв за соперника. Может, при всей интеллигентности и благожелательности, не понять гениальности, воспарившей за пределы его восприятия. Или просто не в настроении будет во время дегустации продукта, живот будет болеть.
Кто бы ни оценивал, всякая оценка субъективна – через свой опыт, свой вкус, свои предрассудки, свою патологию, через очки собственной души, с отпечатками ее пальцев.
У Леонардо да Винчи есть любопытный психологический совет живописцу, перескажу своими словами. Если отбираешь среди людей самых красивых, чтобы их рисовать, – советует Леонардо, – учитывай, красив ли ты сам. Если некрасив, не полагайся только на собственное впечатление: хочешь этого или нет, красивыми тебе будут казаться люди, более иных похожие на тебя.
Я тут добавил бы: так будет получаться, если ты себе, несмотря ни на что, нравишься; а если не нравишься, красивыми будут казаться люди самые отличные от тебя, антиподы.
Сам не образец совершенства – продолжает Леонардо – поспрашивай других, красива твоя модель или нет, и положись на мнение умнейших и лучших.
– Звучит удручающе, хоть советует сам Леонардо.
– У него же читаем – цитирую: НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ТО, ЧТО КРАСИВО.
Идеалом Леонардо была объективность, являемая не только красотой; он понимал, что объективность есть интеграл – всеобщее субъективное, и что смертному к этой всеобщности можно лишь более или менее приближаться.
– Как же узнать, графоман ты ли нет?
– Самому человеку этого знать не дано, как увидеть без зеркала собственные глаза и уши. Обратную связь могут дать только люди и время, такое вот зеркало: человремя.
Не бывает огня без искр, а искры без огня иногда случаются. Дар прорывается и сквозь неумелость: из подражательства, из наивной банальности или сырой невнятицы вдруг сверкнет, как солнышко изза облаков, живой образ, выпорхнет, как птичка из куста, за душу берущая строчка, пахнёт свежестью... Проблески – не залог, не предвестие раскрытия дарования, нет, все под вопросом, но если вопрос есть, это уже надежда.
– Почему вы уверены, что преданная огню стихотворная ОМ была произведением графоманским? Разве там не было искр надежды?
– Может, и были, но пламя не разгорелось. Композиция была рыхлой, стихов много слабых. Видеть это я начал недели через три после посещения «Эврики» – вышел, можно сказать, из запоя и относительно протрезвел.
– Почему не дали рукописи отлежаться, не оставили на переделку или хотя бы на память, а уничтожили?
– Сгоряча. Да и всегда легче было затеять новое, чем домучивать прежнее.
Со стихами дело особое: иным виршам, чтобы прийти в себя – или, скорее, наоборот, из себя выйти – приходится отлеживаться десятилетиями, для других и жизни не хватит. В стихотворной «Охоте» гдето вспыхивали огоньки поэтических находок, а гдето сияла та еще белиберда. Богиня памяти Мнемозина искала кому отдаться, хитрый герой Интуй пролез к ней через туннель подсознания и овладел. Гордый рыцарь Адреналин пел вечернюю серенаду Нуклеиновой Кислоте. Академик Павлов на том свете сам попросился в ад, чтобы искупить свой великий грех перед собачьим племенем, и собаки с фистулами желудка бесконечно его пожирали, становились в вечную очередь, чтобы покушать Павлова. Человеческие характеры уподоблялись прибрежной морской гальке, камням разных пород – а я, автор, их собираю
и топаю каменоломно,
и падаю толпе на грудь –
исчадье каменного лона,
камнелюбивый камнелюдь...
Пожизненно благодарен Людмиле Даниловне за шлагбаум, стукнувший по башке с максимальной мягкостью.
Сколько букв нужно для автографа?
Графомания всечеловечна. Первоисток ее – всаженная в каждую живую частицу жажда бессмертия. Микрографоман – или, так скажем, сперматозоид графомана, – тот вездесущий неуловимый автор, который всюду оставляет автограф из трех букв. Миниграфоманы – и те, что хотя бы одной буковкой своего имени увековечиваются на стенах, на парковых скамейках, на лестничных площадках и в лифтах, на скалах, на деревьях, на музейных экспонатах, в пещерах, в общественных туалетах
Из недр небесных всходит гений,
соединитель поколений,
комета с ледяным хвостом.
Он странен как закон природы.
Он страшен как страшны уроды.
Но есть таинственность и в том,
как хищно маленькие души
вгрызаются в чужие уши,
как, утвердить себя стремясь,
недоумытые поэты
маракают автопортреты
и дарят с надписями грязь,
как недознайки, недосмейки
садятся хором на скамейки,
на стенки лезут и поют.
Везде один и тот же голос,
не отличимый ни на волос:
МЫБЫЛИЗДЕСЬМЫБЫЛИТУТ.
Сойдет за славу и позор нам.
Ползем на небо ходом черным,
а сатана играет туш.
Но погодите же... А вдруг вы
прочтете сквозь немые буквы
инициалы наших душ?
О, поглядите же на стены,
они нам заменяют сцены
и трубы Страшного суда.
Ах, как же вы не догадались,
мы были здесь, и мы остались
и остаемся навсегда...
Это стихотворение под названием «Автографы» (из большого цикла «Инициалы»), в первой редакции было напечатано в 1989 году в 11 номере журнала «Новый мир», рядом со страницами Солженицынского «Архипелага Гулага».
– Может быть, редакторыновомировцы почуяли в вашем стихе какоето родство или параллель гулаговской теме?
– Не знаю, может быть и послышался какойто эмоциональный аккомпанемент. Название первоначальное было: «Перевод надписи на скамейке: ЗДЕСЬ БЫЛ ВАЛЕРА». О древнейоснове графомании – потребности оставлять памятные метки, свидетельства о себе. И потребности в обратной связи от самовыражения, хотя бы только воображаемой.
Лев Толстой говорил не раз, что писать нужно только тогда, когда не можешь не писать. Сам писал только так, страдал священной болезнью Grafomania Grandioza. В этом толстовском значении графоманию – как влечение, как невозможность не, со всем букетом составляющих ее побуждений, – можно считать праматерью творчества, его энергией, его кровью, его землей. С графомании начинают все.
– Даже Пушкин и Моцарт?
– Даже Господь.
– Бог библейский весьма решительно обходился со своими черновиками.
– У Предвечного, в отличие от смертного, сколько угодно материала, сил и времени для авторедакции. А между двумя смертными, гением и графоманом – разница не только исходноуровневая, но и темповая: в скорости и продолжительности развития. У гения подготовительная, графоманская стадия творческого развития протекает ускоренно – у гениеввундеркиндов, каким был Моцарт, почти незаметно, молниеносно, – у графомана же растягивается до неопределенности. Гений, пока творит, продолжает расти, развиваться. Графоман останавливается там, откуда гений начинает, или еще раньше.
– Как обстояло у вас дело с самодиагностикой графомании после сожжения стихотворной ОМ?
– Слабые, недотянутые куски, включения необработанной породы, моменты неадекватности, расфокусированности, заносы и недоносы обнаруживаю у себя постоянно, по сей день.
Нашел в ужасающем количестве уже и при вычитке корректуры прозаической ОМ, чуть было не отказался от публикации. Понимаю теперь, что это нормальное авторское самоедство, что и его надобно, как и авторский нарциссизм, в какойто дозе тоже необходимый, держать в строгом ошейнике.
Графомарш,
или Как я оскорбил чувства советских писателей – Открытому уму доступны послания Вселенной, закрытому – только остатки собственной пережеванной пищи.
– Беда в том, что закрытый ум не ведает о своей закрытости. По его разумению, закрыты другие,
а он на прямой связи с Истиной.
Имир и Мири. Домашние диалоги
– На одном из ваших выступлений прозвучал в авторском исполнении сочиненный вами «Марш графоманов». Музыка показалась мне тонизирующей, а слова довольно реалистичными.
– Эта капустническая озорная песенка помогла мне отреагировать одну из «тем жизни».
Вперед, писаки, смело в бой!
Не страшен нам редактор,
швырнем его вниз головой
мы в ядерный реактор.
Припев
Мы пишем, пишем, пишем,
мы перьями колышем,
бумажный ком становится горой.
На качество не ставим,
количеством задавим,
кто сам себе понравится – тот герой.
(Вариант:
Где не пробьем напором,
свое возьмем измором)
Буудем мы здорово жить,
здорово жить,
здорово жить!
Буудем народу служить,
ну а народ, трамтарарам, воздаст!
Буудем мы звезды тушить,
брамбам, с начальством дружить,
брамбам-барабам, костюмчики шить.
Буудем мы водку глушить,
пить графоман го-разд!
Строчи, братва, назло врагам!
Терпеть позор довольно!
Бей рецензентов по мозгам
настойчиво и больно.
В гробу дубовом, классик, спи,
скрестив на брюхе лапки.
А ты, чувак, пером скрипи,
греби лопатой бабки.
Припев
Дай децибелов, музыкант,
пускай земля трясется!
Кто гений, бамс, а кто талант,
начальство разберется.
Писатель, брысь! Пшел вон, Поэт!
На свалку эталоны!
В печать любой пристроит бред
звоночек телефонный.
Припев
Несметной серою волной
накроем мы культуру.
Все наши книжки до одной
сдадут в макулатуру...
– Слова и сейчас в основном годятся, а куплет о серой волне оказался пророческим.
– Сценическая премьера этой юморески принесла некоторые осложнения.
В подмосковном писательском доме творчества «Малеевка», на детском каникулярном капустнике, где присутствовали и взрослые дяденькиписатели, и их жены, жёписы, как их сокращенно именовали, «Графомарш» театрально исполнил вокальноинструментальный ансамбль, состоявший из разновозрастных писательских деток.
Постановочной частью руководила юная Настя Гачева, дочь гениального писателя, философа и культуролога Георгия Гачева.
Запевалой работал мой сын Максим. Ребятишки, изображавшие армию графоманов, выходили на сцену с огромными пиками, сделанными из тростника (Макс его наломал в окрестной лощине). «Редактора», в исполнении Насти, нещадно лупили по голове сиденьем от стула, сбрасывали со сцены «в ядерный реактор», а под конец в ритме бугивуги устроили импровизированную вакханалию:
Эй! Собирайтесь, графоманы,
будем мы писать романы,
и романы, и стихи,
много разной чепухи!
Эй! Налетайте, графоманы,
не забудьте про карманы,
ни к чему нам Божий дар,
если платят гонорар...
Одна часть дяденекписателей и жёписов весело смеялась и аплодировала. Другая, примерно равная по количеству, сидела с каменными физиономиями: возмутиться изволила, приняв прозвучавшее на свой счет. И без промедления накатала на нас с Максом (он был еще подростком) телегу в руководящий орган Союза писателей. Вменили нам дискредитацию труда советских писателей.
– Вот уж воистину на воре шапка горит. Похоже на анекдот.
– Жизнь – сплошной анекдот, только не все это замечают.
«Мальчик, позови папу»
– Итак, первая книга вышла в свет, и на утро молодой человек Володя проснулся знаменитым Владимиром Леви.
– Но еще об этом не знал. А когда начал узнавать, долго не верил. А когда начал верить, долго не постигал, за что его так. Проснулся с диким стыдом за сырой, местами дурацкий текст. Ожидал немедленного и нескончаемого позора.
– Но вышло иначе.
– Со временем и до меня начало доходить, почему ОМ разошлась в одночасье, почему хлынул поток благодарностей, исповедей, предложений и приглашений, а более всего – воплей о помощи. Изголодавшийся по душевному слову народ набросился на кусочек неважнецки проваренного, но живого знания о человеке с жадностью последней надежды.
Припоминаю – вечер, довольно поздний. Звонок в дверь. Открываю: за дверью крупный, плотный мужик с какимто тяжелым мешком. Смотрит на меня вопросительно. Я еще не носил бороды, вид имел юный, неубедительный. Мужик с мягким украинским акцентом, с ласковой настойчивостью просит меня:
– Мальчик, позови папу.
– Какого папу?
– Ну, батю твоего. Который книжку написал, в погоне за мыслями.
– «Охота за мыслью»?
– Ага, вово. Профэссор Лэви. Позови папу, сынок.
– Гм. Папа спит. Устал очень. Я за него.
– Учишься, да? Тоже в медицину пошел?
– Ага. На медбрата пока.
– В медицинском техникуме? Это хорошо, молодец. По стопам, значит. А папу кликни, пацан. Мне не долго. Совета спросить надо.
– Папа спит. Крепко спит.
– А. Понимаю. Нагрузка большая. Понимаю, сынок. Очень надо мне с твоим батей поговорить. Приихал к ему я з Карпат. Знаешь Карпаты?
– Знаю. Западная Украина.
– Правильно, молодец, географию знаешь. Батю кликни мне на минутку.
– У меня можно спросить. Может, я тоже... Смогу помочь.
– Та ты ж ще малой, тебе ще подрасти трэба. Вот твой батя, профэссор, который в погоне за мыслями – вот он да.
Толковали минут сорок – проще было бы, действительно, позвать папу, но папа мой был в отъезде. Я забыл даже удивиться тому, что автора, с физиономическим подтверждением представленного на обложке как молодого и начинающего, читатель все равно держит за умудренного пожилого профессора. В конце концов, я исхитрился дать мужику чтото вроде совета, и он пообещал обязательно зайти в следующий раз и батю моего застать в гостеприимном состоянии. А я пообещал, что в следующий раз обязательно подрасту.
Попытки взросления
Жажда есть лучшее доказательство
существования воды.
Мири Найт
Письмо это пришло на мой электронный адрес в 2009 году. Читатель почти ничего о себе не рассказывает, имя не называет – понятно только, что человек это уже не юный, читавший мою первую книгу вскоре после ее выхода.
Добрый день, Владимир Львович!
Я из тех читателей 70-х годов, которые с упоением читали вашу книгу «Охота за мыслью» – многих она вылечила от депрессии тех лет. Спасибо за неё и другие Ваши книги.
Хочу спросить – как Вы думаете, появится ли у нас когда-нибудь наука о человеке – ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ, по силе воздействия на психику человека сравнимое с религией и эзотерическими течениями?
Наша официальная наука, в том числе и психологическая, гордо прошагала мимо души человека, хотя много сделала для его разума. В результате этого в наши трудные времена народ обратился за духовной поддержкой не к науке, а к религии и к шарлатанам от эзотерики. Большой науки о человеке пока не получается, а человек этого заслуживает!..
Все ваши книги в совокупности - если их увязать в единую систему – и есть эта наука, понятная читающему народу. Но тяжело видеть, что читающий народ убывает, люди, особенно молодые, читают все меньше, думают все неохотнее. А увязка разрозненных книг в систему, их синтез и изложение в виде, доступном читательским массам – работа отдельная и, наверное, весьма трудоемкая. Собираетесь ли Вы этим заняться?
С уважением, Ваш читатель.
Из ответа
Уважаемый Читатель, спасибо на добром слове.
Полностью разделяю Ваши сожаления о трагичном разрыве между наукой о человеке и душой человека. Разделяю и тревогу и боль за тех многих, кто по наивности, как и во времена оны, вверяет себя психологическим хищникам, темным халтурщикам.
Я действительно стремлюсь делиться своим пониманием целостного человекознания – точней, тех областей этой необъятной вселенной, которые мне по роду занятий доступны, в которых более или менее ориентируюсь. Что же до систематизации всего того, о чем веду речи… Систематизируй, не систематизируй – у каждого в голове все равно образуется какая-то своя система или не образуется никакой. Хотя научный анализ и синтез мною высоко чтимы, все же душе ближе подход художественный: рисовать картину человеческой целостности живописанием жизни в потоке ее живых частностей. Являть противоречивую и непредсказуемую конкретику бытия, а заодно и помогать ей.
Роль путеводителя по моим текстам сейчас исполняет мой интернет-сайт www. levi. ru с Университетом Уверенности и Проблемарием – там есть навигационный механизм со ссылками, позволяющий ориентироваться в лабиринте вопросов, ответов, проблем, решений – и находить свои.
– Связь времен есть. Ваша первая книга оказалась лекарством от «депрессии тех лет», до сих пор это помнится. Вы рассчитывали на такое действие?
– Нет. Удивлялся и сейчас удивляюсь, как и тому, что ОМ перевели на многие языки и до сих пор еще переводят (самый свежий перевод – на арабский, 2007), хотя причины уже отчасти понимаю.
– Согласна с автором письма во многом, но не так уверена, что наши люди, особенно молодые, читают и думают все меньше. Кто это подсчитал?.. Очевидно на сегодня пока лишь то, что чтение все быстрее смещается с бумаги на экраны.
– Я тоже не стал бы огулом обличать молодежь в неначитанности. Вот еще одно письмо, полученное по электронной почте двумя годами раньше предыдущего – ровно через сорок лет после выхода в свет первого издания «Охоты за мыслью».
Здравствуйте Владимир Львович. У меня отец давно увлекается «поиском себя», посещает всякие курсы настроя, самогипноза, внушения… Я в это не верю, считаю простым выколачиванием денег на бедах людей. Большинство недовольно своей жизнью, пытаются как-то ее изменить, и вот тут мошенники за работу…
Я не исключение, я тоже пытаюсь изменить свою «карту жизни», свое представление о мире, которое каждый человек создает для себя сам. Цель этих моих попыток пока еще не в том чтобы сделать «карту» максимально похожей на истинный мир, а чтобы в мире этом было удобно ориентироваться и жить, и чтобы я сам стал настоящим собой. Я чувствую и знаю, каким хочу быть, но не могу с собой совладать. Сложно управлять мышлением… Хочется понять, чем я должен заниматься, почему именно этим, именно так?.. Мысли, как воздух, везде со мной, и покоя от них нет… Отец говорит, что я пессимист, я же думаю, что реалист. Книжки его я не признавал НИКАКИЕ, хотел во всем разобраться сам, ибо обращение к практическим книжкам, считал я – это уже роспись в собственном бессилии.
И вот, совершенно случайно, наткнулся на старую отцовскую книжку «Охота за мыслью», шестьдесят какого-то года выпуска. Владимир Львович, это шедевр, она мне ответила на столько вопросов, гениальное творение. Я только по ней выхожу из депрессий. Это книжка объема Ленинской библиотеки, не меньше, сколько в ней смысла и ПОНИМАНИЯ… Так понятно, доходчивым языком изложить сложные процессы мышления… Я искренне Вам благодарен за труд, который теперь стал моей настольной книгой. Перечитывая, в очередной раз открываю новый смысл Вами сказанного. Вы себе даже не представляете, чему Вы меня уже научили! А сколько мне еще предстоит выучить и осознать, чтобы разобраться в себе…
Алексей Братцев, студент 4 курса, 20 лет. 9 мая 2007г.
Из ответа
Алексей, спасибо за искренность, за читательскую благодарность. Не знаю, что высказать в ответ, кроме благодарности встречной. Ты, конечно, непомерно преувеличиваешь ценность этой моей первой книжки, которую я начал писать в возрасте на 6 лет старше тебя. Отчетливо помню чувство стыда за ее огрехи, охватившее меня в первый же день после публикации... Не сомневаюсь: когда твои знания, понимания и умения обогатятся чтением других авторов, среди которых немало достойных, только не лениться искать, – а главное, твоим собственным жизненным опытом и его осмыслением, – ты отнесешься к «Охоте…» критичней и будешь прав.
Но все равно, письмо твое доставило мне большущую радость. Если книга на каком-то отрезке жизненного пути стала проводником для твоего разума, а для души воспламеняющей искрой, – чего же большего пожелать? К другим горизонтам поведут другие проводники, а запас горючего по дороге, если продолжать двигаться, многократно пополнится…
– Хотели вы этого или нет, но с течением времени образовался круг тех, для кого Владимир Леви – Учитель.
– Я тоже так немилосердно поступал с теми, кому восторженно верил: без спросу зачислял в свои личные учителя.
– Всеобщая наша, извечно-детская потребность в жизненном руководстве. В доброй, прекрасной маме, в мудром, чудесном папе. В сильных и умных, таинственных и веселых, любящих и любимых Идеальных Родителях – если не в двух, то в одном лице. В великой Родной Душе, которая помогает тебе развиваться, которая и там – выше, и здесь, с тобой…
– Все мы дети-сироты в каком-то потаенном своем уголке, даже при родителях живых и хороших.
– Для меня, как читателя, важно, чтобы автор был внутренне взрослее меня; но так же важно, чтобы, обращаясь к моему детскому началу, не самоутверждался за мой счет. Чтобы не сюсюкал, не пошлил и не был высокомерен. Чтобы даже при недосягаемой гениальности не закрывал от меня свое собственное детское существо.
– И я так же читательски чувствую. Если автор свое детское начало от меня запирает, если не искренен со мною по-человечески – по-детски, а напяливает на душу взрослую маску, я ему не верю. Могу высоко ценить, восхищаться, восторгаться – но вот не верю, и все. Если ты душевно закрыт, будь и семижды гением, то гениальность твоя, как труп роскошной красавицы, холодна, и нечего с ней мне делить и делать.
– Неужели вам действительно все еще стыдно за ОМ, несмотря на ее успех и помощь, оказанную этим трудом многим людям, помощь, оказываемую до сих пор?
– За помощь не стыдно. Стыд за успех перетерпелся. Остается стыд перед Искусством. Перед тем, какой книгу можно было сделать, а я не сделал, не дотянул.
– Искусство искусством, но какой-нибудь Виндоус уже через несколько месяцев устаревает, сменяется новым – и все, забвение. Лет через двадцать, а то и десять, если не пять, после выхода этой книги новым ее читателям, чтобы понять, что такое Виндоус, придется залезть в архив каких-нибудь ветхомузейных программ. А душевная книга, пусть и несовершенна, и жалко смотрится, и устаревает во многом, – все-таки не умирает. Сохраняет частичку Вечности. Может столетиями не читаться, но если кто-то когда-нибудь вдруг откроет…
– Тут еще вот в чем дело: технико-экономический прогресс быстр, но космически медленно, из эпохи в эпоху, меняется то главное, чем я занимаюсь и о чем в книгах веду разговор. Данности человеческие: механика тела, свойства души, возрастные закономерности, болезни и старость, эгоизм, стихия инстинктов, строение настроений, законы восприятия, причуды воображения, архитектура мышления, расклады общения, образование иерархий, пружины симпатий и антипатий, движители конфликтов и ненависти, топливо внушаемости, энергетика веры, таинство любви, непостижимость смерти, позывные из Запределья…
Все это, как океанские волны, носимо и гонимо ветрами эволюции и истории, и каждое поколение подобно очередной прибойной волне. Состав же волнуемых вод с незапамятства практически не изменяется: и во времена библейские, и в средние века, и в эпоху Возрождения человек и его мозг, человеческие потребности, человеческие отношения были в основном и решающем такими же, как и сегодня.
– Есть ли у вас представление о том, кто вас сейчас в основном читает – человеческий спектр вашей аудитории?
– Люди всех читающих возрастов, каких угодно профессий, разнообразнейших интересов, всевозможных характеров, всяческого здоровья и нездоровья, разного уровня умственного развития и образованности.
Существенно разделение читающих на искателей помощи и искателей истины. Первые хотят получать от книги поддержку и жизненное руководство – подсказки, советы, инструкции, рецепты и позитивно-врачебные воздействия, до гипноза включительно.
Вторые хотят знать и понимать, осмысливать жизнь и себя в ней. Стремятся к саморазвитию. В книге ищут спутникасобеседника.
Искателей истины значительно меньше; но разделение не жестко: есть и те, кто нуждается в подсказках и помощи, понимая, что помощь требует встречных усилий познания и самоработы; что научиться жить можно, лишь развиваясь.
– Наверное, еще меньше тех, кто ищет в книге красоту, эстетическое наслаждение, вдохновение?
– Еще меньше, но есть и эти родные души.
С первого своего детского рассказика я внутренне обращался к Читателю того уровня, до которого сам дорасти стремился. Обращаюсь к нему и сейчас. Читатель этот может не знать ничего из того, о чем я рассказываю, но выше меня по интеллекту и совести. Такие люди есть, слава Богу, не так уж их мало.
– Последний вопрос по «Охоте за мыслью». Почему вы ее так назвали? Почему, скажем, не «Тайны мозга», как ее переназвали французы в переводе?
– Хотел напомнить, что мысль начинается с любопытства. С детского свободного, неуемного любопытства, перерастающего в любознательность. Нелюбопытному нечего делать в этом мире и не на что надеяться. А любопытный хоть шишек набьет, да удачу найдет. А может быть, Истину.
Ключевые слова: Автобиография
Поделиться в социальных сетях






Вы можете сказать "спасибо" проекту здесь
|