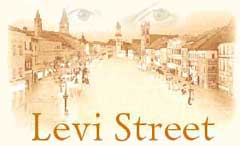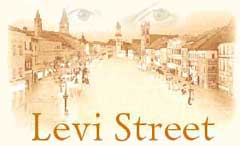Психотропная книга: читатель 21 века
Вопрос из интервью.
Читатель 21 века, каким вы его видите? Что изменилось в культуре чтения за последнее время?
В читательских массах мира и России с нарастающей скоростью идут сложные и противоречивые процессы, за которыми трудно уследить. Социология чтения, психологическое изучение чтения и читателей очень сильно отстают от реальности. Посему и то, что скажу сейчас я — лишь мое личное впечатление; мнение, сложившееся, главным образом, на основе многолетнего наблюдения за читательской аудиторией моих книг.
Противоречия главные вот какие: читательская аудитория одновременно и растет, и уменьшается, и расширяется, и суживается, сворачивается; становится и более грамотной, интеллектуальной, и более примитивной, тупой и темной. Вкус к чтению, культура чтения — и повышается, утончается — и грубеет, деградирует. Все поляризуется и диверсифицируется.
Если брать для сравнения, скажем, советское двадцатилетие от семидесятых до девяностых (обозначим его как Время-С) — и двадцатилетие, с округлением, последующее, до сегодняшнего дня (обозначим как Время-Р), то «на глазок» можно заметить, что поредел и просел слой средних читателей. Сейчас поясню, что имею в виду.
Есть такое понятие «социальная пирамида». Масса, состоящая из разных слоев, с четкими или нечеткими между ними границами. У пирамиды обязательно есть верхушка и часть, близкая к ней, есть середина и есть нижняя часть и совсем дно. Пирамиду такую можно построить для любых параметров любой статистической массы.
Так вот — если брать за совокупный параметр интеллектуальный уровень читателя и культуру (или, скажем, качество) его чтения, то можно сказать, что во Время-С читатель был более усерден и более усреднен. Читательская пирамида была более плотной и плоской, более сплющенной. Читатели в немалом числе старались читать много и читать хорошо, вдумчиво — но получалось это понастоящему, конечно, лишь у немногих.
В нынешнее Время-Р читательская пирамида и вытянулась вверх, и просела вниз, да притом еще вылезла куча отростков кудато в разные стороны — чтото вроде кактуса уже получается. Прошлый усердный и усредненный читатель не исчез, но поредел. Сейчас я вижу читателей и очень высокоразвитых и культурных — их мало, единицы, но всетаки заметно больше, чем в серое Время-С. Но и очень примитивных и малограмотных, практически не умеющих читать, стало больше, и, к сожалению, даже намного больше. То и дело пишут мне письма люди, полагающие, что прочли книгу, едва пролистнув однудве страницы, не запомнив ни названия, ни имени автора, не уяснив толком, о чем, собственно, речь. Обращаются такие граждане исключительно по поводу своих плохо понятых ими самими узколичных интересов или просто так, чтобы промычать чтото, при этом слова с орфографией по правилам встречаются как исключения.
Место читателя в уровневой пирамиде не связано, сколько я мог заметить, ни его с полом, ни с возрастом, ни с профессией, ни с положением в обществе, ни даже с формальным уровнем образования. (Недавно получил письмо, начинавшееся со слов: «Я обОятельная, кандидат наук…») Вот просто — такой человек или иной, это вполне ясно уже годам к четырнадцати.
Расширение читательской аудитории идет, как сказал я уже, и в разные боковые стороны. Читатель специализируется, разветвляется на множество специфических интересов и мотиваций, субкультур и тусовок — профессиональных, политических, потребительских, этических, эстетических, половых, религиозных и прочая. Сейчас можно — и нужно, наверное, — писать специальные книги для рыжих, для лесбиянок, для рокеров, для одиноких старушек, для любителей такс, для садистов, для садоводов, для ценителей тонкого остроумия, для дебилов, для лысых — и все они будут востребованы. Раньше такое вряд ли было возможно.
Как общее печальное свойство сегодняшнего читателя можно отметить его нарастающую ленивую информационную пресыщенность и, как побочное следствие, охамление. Писатель, автор, даже самый гениальный и признанный, перестал быть тем почти сакральным авторитетом, каким был ранее. (В этом повинно, конечно, и само писательское сословие, сильно опозорившееся как раз во Время-С.)
В массовом сознании популярный «раскрученный» писатель теперь чтото промежуточное между средней руки телеведущим и слегка успешливым представителем малого бизнеса, которому до олигарха так же далеко, как до соседней галактики.
Появление Книги, даже самой чудесной и великой, или самой расхожей, хитовой, вроде Гарри Поттера или «Кода да Винчи» — перестало быть Событием, каким было еще и в восьмидесятые годы, и в начале девяностых. Я и у самого себя с отвращением наблюдаю признаки избалованности кошмарным сверхизобилием книжного рынка. Я уже не ищу хорошую книгу с таким охотничьим азартом, как раньше, а найдя, не перелистываю с прежним трепетом. Плохо это. Неблагодарно.
С другой стороны — тоже общее свойство: полная дезориентированность, потерянность в океане неизбывных книжных волн. Нет надежных, не залапанных бизнесом карт этого океана, не хватает хороших компасов и квалифицированных, добросовестных лоцманов — настоящих Книжников.
Что же ждет Книгу после Времени-Р — скажем, в гипотетическое Время-Г?.. Книге придется трудно. Уже нынешний читатель поставлен в условия жесточайшей конкуренции книжного канала информации с другими, и число конкурентов у Книги будет расти и дальше. Закат книжного дела и финиш литературы давно был предречен, еще в пятидесятые годы прошлого века, сразу после начала экспансии телевидения. Слава Богу, гибели Книги не произошло и — мною, по крайней мере — в обозримом будущем не предвидится. Книга устояла, литература живет, но уже изрядно потеснена и общипана, и ее будут продолжать теснить, трепать и давить дальше, кому не лень. Сейчас главные конкуренты — компьютеры, но на этом облом не кончится. Даже мобильники, и те вредят чтению.
Чтобы выжить, Книге придется претерпеть переплав — новый синтез с другими каналами информации и искусства. Этот синтез уже происходит через электронный канал — уже наступила эра анимированной книги, многомерного книгофильма. Практиковать будут различные сочетания чтения с визуальным, аудиальным и другими каналами, вплоть до кинестетического и вестибулярного (сидишь, читаешь, а тебя в прямом смысле трясет и швыряет к потолку и обратно). А скоро, глядишь, появятся и такие книги, которые будут входить непосредственно в мозг — книги психотропные. Читатель будет переживать то, что переживают герои книги и ее автор, уже не через посредство своего воображения, а путем непосредственного возбуждения соответствующих мозговых центров — будет жить в книге как в сновидении.
Это не совсем шутка и не просто фантастика, хотя пока и похоже на бред — внедрение информации в химию мозга, а после, того гляди, и в гены. Психологически и технически все это уже близко. Зачем выпускать какие-то бумажные или даже электронные книженции? Хапнул книгу-таблетку, и готово, отправляйся в лучший из миров: книга-гипноз, книга-наркотик, книга-генокорректор — не хило, да? Вот доживем до века двадцать второго…
Поделиться в социальных сетях






Вы можете сказать "спасибо" проекту здесь
|